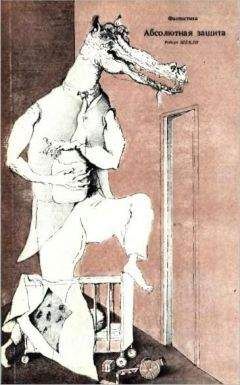Наринэ Абгарян - С неба упали три яблока
Накануне солнцестояния вышедшая во двор Анатолия застала Патро под засохшей яблоней, которую Василий не спиливал по ее просьбе, – ведь это было любимое дерево бабо Манэ, так пусть стоит в память о ней. Пес самозабвенно рыл под мертвым деревом, раскидывая вокруг влажные комья земли, почуяв присутствие Анатолии, громко залаял, ринулся к ней, вцепился зубами в подол платья, потянул за собой. Остолбеневшая от исполнившегося сна Анатолия дала подвести себя к вырытой неглубокой ямке, заглянула в нее. Нет там ничего, Патро-джан, попыталась успокоить она собаку, но Патро ныл и скулил, раскидывал землю лапами, а потом, радостно взвизгнув, вытащил что-то и положил у нее в ногах. Анатолия наклонилась, рассмотрела полуистлевший комок ткани, осторожно его развернула и обнаружила внутри потемневший от времени тяжелый серебряный перстень с синим большим камнем, названия которого она не знала. Тщательно очистив от грязи и темного налета, она убрала его в шкатулку, где лежало единственное украшение, оставшееся от матери, – камея из натуральной раковины, нежно-розовая, в бежевый перелив, с искусно вырезанной юной девушкой, сидящей вполуоборот и высматривающей кого-то вдали. Воске подрастет, будет носить.
Вечерами, убаюкивая дочь, Анатолия пела ей колыбельные, которые когда-то напевала ей мать, – о грибном дожде, который шел в день, когда волчица родила, о семерых ее волчатах, разбежавшихся по миру, но вернувшихся в день, когда она потеряла надежду их увидеть, могучими волками; о ветре, приносящем на своих стремительных крыльях вести от тех, кого давно уже нет; о дотянувшейся до небес виноградной лозе, на ветвях которой спят райские птицы…
Воске слушала, затаив дыхание, рядом, зарывшись носом в ее мягкие кудри, лежал Василий, по-другому она не умела засыпать, мать должна была петь колыбельную, а отец – просто быть рядом, и это было правильно, Воске ничего не знала о большом мире, у нее был свой крохотный мирок, каменный дом, засохшая яблоня, три десятка стариков и одна часовня, где по праздникам вел службу приходящий священник, восточный бок деревни защищала от снежных обвалов глухая стена, а западный безвозвратно провалился в пропасть, единственная ведущая в долину дорога год от года становилась все непреодолимей, зарастая бурьяном и чертополохом, и лишь следы телеги Немецанц Мукуча, ездящего за продуктами, не давали ей зарасти окончательно, оставляя две узкие белесые борозды на протяжении всего пути от макушки Маниш-кара в большой мир; на веранде дома Анатолии, сложив на груди руки, стояла невидимая всеми Магтахинэ – ангел-хранитель Воске; в доме Ейбоганц Валинки все так же дышала трещина в стене – то расходилась, то обратно сходилась, но не зарастала, словно расколовшееся горем надвое сердце, которое болит, но продолжает жить; в бельевом ларе, аккуратно завернутые в ситцевую наволочку, чтобы не полинять, лежали рисунки Настасьи, все уже забыли о буквах, которые она разглядела на ограде могилы белого павлина, но Маран давно признал в них инициалы своих единственных потомков, мальчика и девочки, которым суждено было или обрубить историю деревни, или же придумать ее новую страницу, вот только кто бы мог знать, как оно сложится, кто бы мог знать; в деревянной конуре, положив ушастую морду на больше лапы, спал Патро, верный пес, который нашел в корнях засохшей яблони кольцо, спрятанное в день рождения Анатолии цыганкой Патриной, а над крохотным миром маленькой Воске раскинулась бездонная летняя ночь и рассказывала истории о силе человеческого духа, о преданности и благородстве, о том, что жизнь – это круги, оставленные дождевыми капелями на воде, где каждое событие – отражение того, что было раньше, вот только угадать их не дано никому, если только избранным, которые, однажды появившись в этом мире, не возвращаются уже никогда, потому что испивают свою чашу с первого раза и до дна, но сейчас не об этом, сейчас о том, как ровно год и месяц назад, в пятницу, сразу после полудня, когда солнце, перевалившись через высокий зенит, чинно покатилось к западному краю долины, Севоянц Анатолия легла помирать, не ведая того, как много прекрасного у нее впереди, и вот оно пришло, это прекрасное, и дышит легким и ласковым, и пусть так будет долго, и пусть так будет всегда, а ночь будет колдовать, оберегая ее счастье, и перекатывать на своих прохладных ладонях три яблока, которые потом, как это испокон веку было заведено в маранских сказаниях, уронит с неба на землю – одно тому, кто видел, другое тому, кто рассказал, а третье тому, кто слушал и верил в добро.
Рассказы
Мачуча
Шесть
– Чуть наклони голову к плечу. Улыбнись. Улыбнись! Ты умеешь улыбаться? Покажи, как умеешь. Молодец. И не моргай. Смотри вот сюда, сейчас вылетит птичка.
Мачуча высоченный, очень смуглый и неожиданно сероглазый. Чтобы поймать его взгляд, приходится сильно откидывать назад голову. Снизу он похож на великана – длинные-предлинные ноги, большие руки с нервными пальцами – он водит ими в воздухе, словно наигрывает на невидимом инструменте. «Наверное, на дудке играет», – думаю я. Спрашивать робею – Мачуча красивый. А красивые мужчины у меня, шестилетней, ничего, кроме недоверия, не вызывают.
Волосы у Мачучи кудрявые, смоляные, ресницы частые и пушистые, усы огибают верхнюю губу скобой – он отпустил их совсем недавно, потому смотрятся они на его лице так, словно их фломастером пририсовали. Мне его усы не нравятся, о чем я сразу же сообщаю, но Мачуча говорит, что они придают ему солидности. Мне лень спрашивать, что такое солидность, потому я делаю важное лицо и киваю. Пусть думает, что знаю.
Фотоателье Мачучи называется «Берд». Ровно так, как называется городок, где мы с ним живем. Я – в двухэтажном каменном доме на пригорке, когда ветрено, в окна моей комнаты стучится райская яблоня, а луна ночью рисует на половице блекло-серебристый квадрат. Мачуча – в одноэтажном доме на локте соседней улицы, у него старенькая мать Нубар, говорит она на западноармянском диалекте, который я с трудом понимаю. А еще она знает английский и здоровается со мной при встрече так: гуддей, дарлинг, хау ар ю. Ай эм файн, отвечаю я. Это все, что я умею ей ответить. Где папа Мачучи, я не знаю. Может, умер, а может, бросил их и уехал в другой город, как это сделал муж моей тети. И теперь она вынуждена работать в три смены, чтобы прокормить дочерей, а муж звонит ей раз в месяц и говорит, что денег не будет, и пусть они выкручиваются как хотят. Муж у моей тети красивый.
Перед тем как сфотографироваться, я решаю привести себя в порядок. Зеркало находится в крохотном, огороженном ширмой закуте. К стене прислонен колченогий стул, видно, для тех, кто не любит приводить себя в порядок стоя. Над стулом висит небольшая карта. Если повернуть ее влево, кажется, что на ней изображен великан в длинной робе. Он стоит в профиль, откинув назад голову и подняв вверх руки, словно призывает в помощь небеса. Я какое-то время изучаю карту, а потом отвлекаюсь на навесную полочку – чтобы разглядеть, что на ней, приходится вставать на цыпочки. На полке обнаруживаются пластмассовая расческа и несколько заколок.
– Тут кто-то свои вещи забыл, – кричу я Мачуче.
– Какие вещи? – заглядывает он ко мне.
– Вот!
– Это я положил. На случай, если какой-нибудь посетительнице захочется сделать себе другую прическу. Ну как, ты уже готова?
Я заправляю за уши выбившиеся из хвоста пряди волос.
– Готова!
Мачуча усаживает меня в кресло. Сзади, в тяжелой кадке, стоит искусственная разлапистая пальма и пахнет пластмассой. Я верчу головой, чтобы рассмотреть ее лучше.
– Не вертись! – делает замечание Мачуча. Он направляет на меня свет ламп, разглядывает придирчиво. – Тебе обязательно фотографироваться с этим зайцем?
– Ага.
Он цокает языком. Видно, что заяц ему не нравится. Он старый и обтрепанный, а глаза у него пуговичные и разные – один зеленый, поменьше, а другой синий и побольше. Зеленый глаз у него свой, а синий мы позаимствовали у кримпленового пальто мамы. Мачуча поворачивает зайца так, чтобы он сидел боком. Я протестую – мне важно, чтобы на фотографии его было видно целиком.
– Почему у него глаза разные? Смотрит вразнобой, как дурак, – недоумевает Мачуча.
– Пуговица потерялась, вот и пришили другую, – бубню я. Мне за зайца обидно, он хороший, мне его бабушка подарила.
Мачуча вздыхает.
– Ладно.
Он ныряет под черную накидку фотоаппарата, затихает.
– Чуть наклони голову к плечу. Улыбнись. Улыбнись! Ты умеешь улыбаться? Покажи, как умеешь. Молодец. И не моргай. Смотри вот сюда, сейчас вылетит птичка.
Фотография получается такой, что мама с папой потом смеются до слез, – в большом продавленном кресле, на фоне искусственной пальмы, сижу насупленная я и прижимаю к груди разноглазого и облезлого тряпичного зайца.
Шестнадцать
Влетаю с разбега в фотоателье – времени в обрез. Мачуча отрывается от квитанции, которую старательно заполняет. Насмешливо прищуривается: