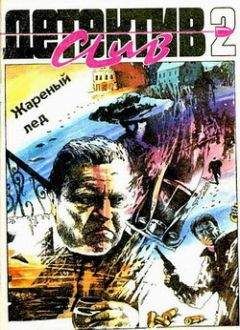Александр Котляр - Берлога солнца (сборник)
– Здравствуйте, меня зовут Махбенсах, доктор Махбенсах, я буду удалять вам зубы. Фиджи, принеси комплект сменных зубов.
Гера хотел спросить про проект «Еврей-рыба», но вместо этого сбивчиво произнёс:
– А почему, почему удалять? Может, просто посверлим? Я на удаление не записывался.
Махбенсах улыбнулся и надел перчатки:
– Ложитесь, сейчас посмотрим.
Оказалось, что зуб всё-таки надо удалять и вживлять имплант.
– Вы знакомы с новым методом Залусджа? Потрясающий метод. Зуб не удаляется, имплант вживляется в нёбо неподалёку от замещаемого зуба и со временем вытесняет его. Абсолютно безболезненно. Так как, будем пробовать?
– Будем, – печально свистнул жаброй Гера.
Махбенсах высверлил в нёбе дыру и всадил в неё имплант.
– Ну вот и всё, можете идти, только подпишите вот здесь.
– Что не возражаю против летального исхода? – Гера придвинул исписанный мелкими ивритскими буквами листок.
– Да нет, это на оплату. Вы хотите на платежи разбить или одним?
– Одним. – Он подписал документ и вышел из кабинета.
В отличие от жабры, имплант прижился хорошо, но прочему-то стал передвигаться в сторону горла и вскоре закрыл вход в пищевод. На нём застревали куски проглатываемой пищи. Стало очевидно, что имплант надо удалять, но идти к Махбенсаху Гере не хотелось, и он решился на переход из Клалита в больничную кассу Маккаби[2]. Заполнил анкету о вступлении и протянул её скучающей девушке.
– Вы не хотите поучаствовать в проекте «Еврей-птица»? – спросила она.
Гера вспомнил, что девичья фамилия его матери – Ципципер, и…
Но это уже совсем другая история.
Без наркоза
С детства люблю себя оперировать. Если в пятку вдруг гвоздь вошёл или кусок стекла, то – бритвой с вожделением мазохиста, из глубокого разреза окровавленными пальцами. Вскрытие конечностей в нестерильных условиях по большей части не приводит к летальному исходу. Совсем иначе обстоит с удалением опухолей, расположенных в области головы.
Я давил фурункул двумя руками, протыкал ноздрю нестерильной иглой, подрезал кожу ржавой бритвой. Но фурункул умело выскальзывал из-под пальцев.
– У тебя правую половину лица раздуло, как при свинке, – озабоченно сказала мама. – Давай на два этажа спустимся, пусть тебя Лера посмотрит.
Я не хожу к врачам даже в критических ситуациях, и организм привык побеждать недуг без вмешательства извне. Но объяснять это маме бесполезно, и уже через десять минут соседка, известный отоларинголог, разглядывала мой фурункул через металлическую трубку, вставленную в ноздрю.
– Ну как, жить буду? – бодро пошутил я.
– Если прямо сейчас не поедешь в Первую Градскую, то вряд ли, – ответила она без тени улыбки. – До утра не доживёшь.
Шутки медиков часто сбивают с толку, но по выражению её лица было понятно, что ехать надо. Частник быстро довёз меня до приёмного покоя больницы. Полутёмный зал с каменным полом напоминал морг. На передвижной никелированной кровати неподвижно лежала полная женщина в пальто, на полу под ней распласталась оттаявшая курица в целлофане.
– Сбила машина, наповал, не дышит, – спокойно сказал человек в белом халате. – А ты что, сын убитой?
– Нет, она мне никто, – я показал пальцем на курицу. – Я сюда из-за прыща. Вот, раздуло рожу как свинкой. Мне, наверное, лучше утром в поликлинику…
– Давай осмотрю тебя, раз уж приехал, – предложил человек в халате.
Я взгромоздился на хирургическое кресло, он долго вглядывался в мою ноздрю через увеличительное стекло, потом поднял телефонную трубку:
– Скорую к третьему, срочно!
– Кому скорую? – не понял я.
– Тебе. Операцию надо делать, до утра не дотянешь. Скорая тебя в травматологию отвезёт.
– Полночь уже, может, утром?
– Утром будешь как эта, с курицей.
«Сговорились они, что ли, – и соседка, и этот в халате?» – расстроился я.
Тем временем подъехала скорая. В кабинет влетел санитар-перевозчик:
– Этого везти?
– Да, и скажи Коновалову, чтобы резал немедленно, а не когда проспится.
Мы вышли на улицу и сели в машину. На заднем сиденье ждали две женщины. Одна несуразно поджимала правую ногу, другая грустно смотрела хронически больными глазами. Вскоре перевозчик остановил машину, высадил женщин и, повернувшись ко мне, загадочно улыбнулся:
– А тебя в травматологию, к Коновалову.
– Почему вы улыбаетесь? – спросил я, предчувствуя скорую встречу с нехорошим.
– А что мне, каждому сострадать? Хотя твой случай особый – встреча в тихий час с Коноваловым ничего хорошего не предвещает.
– При чём здесь тихий час? Это же не пионерский лагерь.
– Тихий час – это когда в травматологии тихо. Травмированных под утро подвозят. Сейчас они ещё пьют в кабаках, танцуют, девчонок лапают. А через каких-нибудь пять часов – с черепно-мозговыми под скальпелем Коновалова. Жизнь – непредсказуемая штука, мы лишь куклы-марионетки на ниточках.
И перевозчик хрипло запел:
Дергает тросы злой господин,
Счастье – иллюзия, сводами хлипка,
Призраки кукол – притворных машин,
Случаем скомкана счастья улыбка…
– Выходи, приехали. Дверь в корпус закрыта, так что ори, бейся как бабочка о стекло.
Санитар-философ нажал на газ, оставив меня перед дверью тёмного окнами здания.
Входная дверь и вправду была закрыта. Я скрёбся в неё застенчивым интеллигентом, стучал возмущённым пролетарием – дверь не открывалась.
Во мне вскипела волна протеста: «Получают по двойному тарифу за ночное дежурство, а сами спят. А может, и не поодиночке спят, скрипят пружинами больничных коек… Вот из вредности не умру перед дверями!» И я заорал сиреной:
– Пожар! Надеть кислородные маски! Срочная эвакуация!
Призыв был услышан, в дверях призраком возник испуганный маленький человек в несвежем халате на скорые плечи:
– Где горит?
– Внутри меня горит! Меня оперировать надо срочно, до утра могу не дожить.
– Ну и не доживай, вас тут таких знаешь сколько? Что мне теперь – личную жизнь под каблук спускать? – и он посмотрел на носки своих неотгуталиненных ботинок.
– Личная жизнь неотделима от общественной и связана с ней узами причинно-следственных связей, – значимо изрёк я.
– Красиво сказано, – одобрил человек в халате. – Жалко будет, если такой животочащий источник разума заглохнет. Орган-то какой вырезать будем?
– Да вот, прыщ. – Я шестым чувством определил в маленьком человеке Коновалова.
Он посадил меня на стул, отогнул край ноздри пинцетом и посветил в нос фонариком.
– Так у тебя абсцесс, в кровь зараза пошла. Если сейчас не почистить, утром будешь в морге новеньким. Ты про гангрену слышал? Так вот у тебя она самая – гангрена прыща. Ничего, у нас с этими гангренами разговор короткий. Вчера вон мужику ступню по самую голень срезали… И твою гангрену ликвидируем, оттяпаем по шейные позвонки, декапитация, гильотина, – и он мелко задрожал подбородком от смеха.
«Тупицы, почему кругом одни тупицы – и перевозчик, и этот?» – я посмотрел на Коновалова, хлюпая абсцессной ноздрёй.
– Ты к боли как, восприимчив? – вдруг спросил Коновалов.
– К чьей боли? – не понял я.
– Ясно, что к своей, чужой только канонизированные мучаются. Резать я тебя буду в чувствительной зоне, там ткань прошита нервами, и каждое движение моего скальпеля будет отзываться в тебе муками, – и Коновалов для убедительности покрутил перед моим носом скальпелем со следами засохшей крови.
– А как же анестетики – химические вещества, призванные создать иллюзию отсутствия боли? Почему бы не испытать их действие на мне?
Похоже, мне удалось поразить Коновалова осведомлённостью.
– Нет у меня ключа от сейфа с наркотой. Его Рукосуев, глав наш, домой уносит.
– А когда этот Рукосуев придёт? – с надеждой спросил я.
– Утром в восемь, с боем курантов ворвётся, но до восьми ждать не будем. К трём ночи у тебя температура поднимется до 41, а к четырём забьёшься в конвульсиях и впадёшь в кому. – Коновалов для убедительности подпрыгнул и смешно затрясся всем телом. – Ты спирт неразведённый без закуси пьёшь?
– Конечно, кто ж не пьёт. – Мне хотелось выпить, и уже было не важно что.
– Ну, тогда заанастезируемся вместе, и операция пройдёт безболезненно для обоих. Думаешь, у меня сердце – грабли? Я знаешь как состраданием к тебе мучиться буду? Почти как канонизированный.
Коновалов достал из шкафа трёхлитровую бутыль и привычным движением, не глядя на горлышко, наполнил до краев два химических стакана.
– Вот, занюхай, – он придвинул ко мне пластиковый пакет. Пакет пах докторской колбасой и вызывал обильное слюноотделение.
«Интересно, кто готовит Коновалову завтраки, кто складывает в пакет проложенные колбасой кусочки хлеба – неужели он сам? А может, женщина?» – подумал я, но спросить не успел – Коновалов уже поднял стакан и произносил тост: