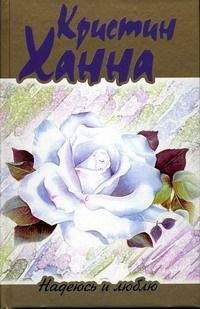Мария Сухотина - За жизнь. Очень короткий метр (сборник)
Жора покривился, но вычеркнул. Андрей стал ковать железо дальше.
– Слушай, а ты с ней спал?
– Спал, – гордо сказал Жора. – Семь раз. У меня записано!
– А ты в курсе, почем у вас девахи на Привозе берут за час и за ночь?
– Конечно, в курсе! – Жора полистал блокнот, нашел нужную информацию и озвучил таксу.
При помощи нехитрых арифметических действий друзья установили сумму очередного «вычета»… Словом, в итоге от полтинника остались всего три рубля.
– Жора, ну это же близкая тебе женщина! У вас же отношения были, свидания, интим… Неужели ты близкой женщине не простишь долг в три рубля?!
Жоре все же не совсем была чужда гусарская удаль… Пьянея от собственной щедрости, он решился на широкий жест:
– Прощу! – но вдруг озабоченно поскреб затылок и добавил: – Hо ей же надо об этом сказать! Она, наверное, тоже мучится, отдавать деньги или нет. Пусть знает, что я ничего не жду.
Андрей не успел возразить: в угаре великодушия Жора уже рванулся в коридор, к общему телефону. Дальнейшее Андрей (как и все соседи по коммуналке) слышал через хлипкую дверь. Звучало оно так:
– Алло? Марина? Здравствуй, Марина, это Георгий. Я что звоню-то… Помнишь, ты у меня занимала пятьдесят рублей? Так вот, я тут подумал…. Такое дело… Ты же мне свитер дарила с галстуком? Ну, они на девятнадцать рублей выходят, я посчитал. Потом, ты меня обедом кормила пять раз. У нас в столовке обеды по рублю, так что еще минус пятерка… Ну и того… спали мы с тобой раз семь. Так если посчитать, почем девки на Привозе берут… Короче, там всего три рубля остается от твоего долга. Ну, я их это… решил тебе простить. Мы ж с тобой не чужие. Считай, что ничего мне не должна… Что?! … Кто?! Марина, алло!
После долгой гробовой тишины Жоры приплелся обратно в комнату. С него можно было писать картину «Незаслуженно оскорбленная добродетель».
– Андрюх, ну ты прикинь, – дрожащим голосом сказал он. – Она! Меня! За мои же три рубля!!! Обозвала мудаком!
Кулинарно-лирическое
Столько всего написано о кухне и обычаях народов мира… И при этом этнографы, по-моему, много лет допускают глупую и несправедливую ошибку. Они игнорируют интереснейший народ с особенной зоной обитания и с совершенно уникальной – часто даже экстремальной – культурой еды! Я имею в виду студентов в общежитии…
До сих пор помню некоторые гастрономические «изыски», изобретенные мной в нашей общаге на проспекте Вернадского. Оттуда я вынесла, пожалуй, один из самых ценных навыков в жизни: способность приготовить что угодно из чего угодно. Готовить, имея много хороших продуктов, да кучу посуды, да полностью оборудованную кухню – дело нехитрое. Вот когда нормальной кухни нет, электрические плитки тоже не в каждой комнате, а вообще официально как бы запрещены, и часто приходится оперировать только кипятильником и кастрюлей – открывается безграничный простор фантазии.
Как любой нормальный молодняк, мы были очень счастливыми, абсолютно безмозглыми, и вечно голодными. Тратить деньги осмысленно мы, конечно, не умели; к тому же на дворе стояли девяностые, супермаркетов с доступными ценами еще почти не было даже в Москве, до ближайшего рынка приходилось таскаться на метро. Так что в основе нашего рациона лежали бульонные кубики и «моментальная» лапша. Но все же – не «Дошираком» единым! И даже для «Доширака» мне тогда удалось придумать некий апгрейд.
Итак, суп. В кастрюлю с водой я клала кипятильник и включала его. Когда вода кипела, я прямо туда, к кипятильнику, кидала порезанную картошку. Потом отправляла туда дошираковскую лапшу и приправы, варила это все до готовности картошки, разбивала туда и разбалтывала яйцо, под конец заправляла зеленью и кидала кусок масла (чаще всего, конечно, у нас было не сливочное, а какая-нибудь гадость типа «Рамы»). Кипятильник все это время лежал на дне и кипятил. Потом его приходилось отмывать от лапши и яйца, но суп получался вполне приличный.
Еще я делала «гуляш студенческий» на довольно паршивой тушенке, которая продавалась тогда в Москве. Сначала, опять же, кипятила воду и кидала туда картошку, потом добавляла морковь, лук, и все овощи, какие наскребались в хозяйстве – скажем, перец и помидоры, чаще всего дешевую мятую некондицию, или раздавленные по дороге из магазина. Если не было их, в дело шла томатная паста или кетчуп. Далее соль, перец, лавровый лист, иногда чеснок – и собственно тушенка. Гуляш объединял в себе первое и второе, легко приготовлялся в больших количествах, и был исключительно нажорист. За что и ценился.
Верх мастерства и изобретательности – капуччино из растворимого кофе в общажных условиях, без всяких кофеварок и прочих агрегатов. Берется большая кружка, в нее сыплется требуемая доза какого-нибудь Нескафе и пара ложек сахара-песка. Добавляются буквально две капли горячей воды (очень важно ни в коем случае не переборщить, именно две капли). Все это смешивается в кашицу и растирается чайной ложкой минут 10, буквально добела. Далее нужно очень тонкой струйкой влить туда кипяток из чайника, который надо держать как можно выше. Лучше всего влезть вместе с чайником на стул, чтобы вода падала в кружку с высоты метра в полтора. Если все делать правильно, получится белая пена на полкружки. Туда можно очень аккуратно долить молока или положить чайную ложку сгущенки.
Сгущенка занимала в нашей жизни особое место, с ней связано много историй. Например, ее варили, она взрывалась, ее всем блоком отмывали от стен и потолка… А еще был поучительный казус с моей соседкой Иркой. Про Иркину жизнь вообще можно писать романы, только все равно никто не поверит, что так бывает…
В тот год за Иркой бегал Гоша (и еще с полдесятка всяких, но сейчас речь не про них). Гоша был не то чтобы прямо мажор, но «мальчик из хорошей семьи». Его учили красиво ухаживать: водить девушек в рестораны, устраивать культурную программу, дарить цветы и т. п. И он исправно применял все это к Ирке. Ей оно, правда, было до фонаря, как и сам Гоша. Она тогда ходила на танцы и плясала рок-н-ролл с огромным монтажником лифтов Толиком, а еще у нее был физик Сергей, а еще у нее была работа, на которую она ходила после универа, и после учебы, работы и танцев она приползала в общагу ближе к полуночи, зеленая как зомби. Так что разбираться еще и с Гошей у нее не было сил, и он иногда возникал в общаге и ждал ее, бледный и печальный.
Как-то на 8 марта Гоша притащил ей розы. Темно-красные. Несколько десятков. Наверное, он думал добить Ирку количеством, или задавить массой. Бедный дурачок! Когда она увидела цветы, лицо у нее слегка застыло. Я ее понимала, потому что сама тоже мысленно подсчитала стоимость этого букетика и перевела ее в пищевой эквивалент. Мы могли бы несколько дней обедать всем блоком! Ирка не сдержалась и довольно энергично объяснила Гоше, что розы на хлеб не намажешь – в отличие, например, от сгущенки.
Надо отдать Гоше должное, через пару дней он появился снова с тремя ящиками. В первом была простая сгущенка, во втором – вареная, в третьем – сгущенка с какао. Это богатство кормило нас много недель. Когда у нас кончался провиант, мы брали банку сгущенки и отправлялись гулять по коридорам. Если из какой-нибудь «дружественной» комнаты пахло едой, мы туда стучались и радостно объявляли, что зашли посидеть, поболтать, вот и сладенького к чаю принесли. Хозяевам ничего не оставалось, кроме как впустить нас и поделиться ужином…
Правда, Гоше это не помогло. Летом Ирка бросила разом Толика и Сергея, и влюбилась в одного серфингиста с Селигера. Он был редкий козел. Ирка страдала и читала Рерихов, потому что серфингист корчил из себя знатока русской и восточной философии, и ей хотелось «соответствовать». Часто она читала их мне. Ночью. Вслух. Потом у меня тоже случилась какая-то романтическая фигня, и мы стали с упоением страдать совместно. Почему-то в рамках страданий мы бесконечно прослушивали Nothing Else Matters и July Morning (видимо потому, что читать Рерихов на два голоса я категорически отказалась). Но был и еще один ритуал.
Каждую ночь, около половины третьего, мы шли к метро и там в круглосутке покупали большой трехцветный пломбир «48 копеек». Каким-то мистическим образом деньги на него находились всегда. С одной стороны брикета была белая ванильная полоса, с другой – розовая земляничная, а посередине – коричневая шоколадная. Я любила ванильный пломбир; Ирка земляничный. Шоколадный любили мы обе. Поэтому, вернувшись в общагу, мы ставили между кроватями маленький самодельный столик, на него – одну большую тарелку, а на тарелку вываливали мороженое белой полосой ко мне, а розовой – к Ирке, и ели каждая со своей стороны, постепенно подбираясь к шоколадной части. Ее мы делили строго поровну, и начинали играть в «расщепление атома». Надо было отколупывать от пломбира малюсенькие кусочки, а когда останется совсем капля, умудриться разделить ее пополам, и остаток тоже, и потом его остаток… Выигрывала та, кому удавалось растянуть поедание дольше. Впрочем, несмотря на все эти ухищрения пломбир все равно исчезал за одно проигрывание Nothing Else Matters или July Morning.