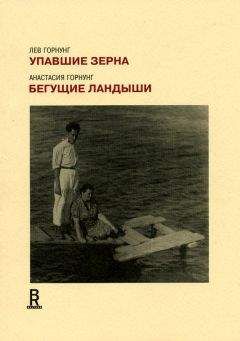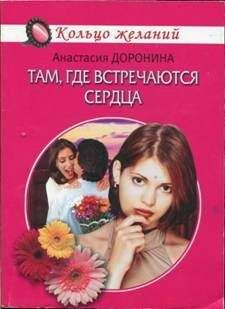Ян Бирчак - Анастасия. Вся нежность века (сборник)
С его положением в обществе, с его умением легко обзаводиться связями, с его наружностью и шармом, с его неподражаемым d’esprit предстоящий брак мог стать событием сезона. Сколько сердец он обнадежил, скольких красавиц разочаровал – и в домах, где имелись на него виды, не было вечера, чтобы не упоминалась фамилия Ольбромского.
Но на ком же он остановил свой выбор? На дремучей провинциалке, чуть ли не какой-то поповне – ни красоты, ни приданого, ни имени! – и ребристые, как лестницы, желтозубые и плоские петербургские метрессы в окружении неизменных «пажей» – каких-то услужливых Николенек, Жоржиков, Мишелей с влажными блудливыми глазами и ухватками сластолюбивых котов, эти законодательницы этикета, grand dame бомонда, нервно обмахивались кружевными платочками, источавшими запах лориган-коти, и дружно возмущались: не намерен же он в самом деле ввести в общество свою таврическую цирцею!
Что за несусветные причуды – разве замечали за этим бретером и жуиром, завсегдатаем бальных залов, героем стольких нашумевших историй тайную склонность к аскезе? Даже если это дань модному нынче толстовству, стремление к опрощению, хождение в народ или еще какая-нибудь барственная блажь – не до такой же степени он безумен, чтобы разом зачеркнуть всю будущность и с его темпераментом найти свой финал где-то в степной глуши?
Ему охотно приписывали безнадежный роман с великой княгиней, связь с заговорщиками и революционерами, организацию географической экспедиции, отчаянную растрату – все что угодно, но не довечное прозябание в провинции ради неразвитой пейзанки[2]. Обманутые в своих лучших надеждах признанные столичные красавицы с вытянутыми породистыми лицами, некрасивые и надменные, обиженно поджимали дрожащие губы.
Сколько язвительных фраз, сколько убийственных реплик готовы были сорваться ему вслед, какие составлялись сокрушительные пассажи, чтобы прозвучать за его спиной и разойтись по всему Петербургу (в лицо говорить такие вещи полковнику опасались, слишком хорошо умел он парировать, когда его задевали) – и все осталось всуе.
Ольбромский перестал появляться в гостиных и на приемах, манкировал визитами и приглашениями и выходил из квартиры исключительно по крайнему делу.
По приезде на старую квартиру его застала накопившаяся за время длительного отсутствия не слишком многочисленная почта, среди которой на глаза попался с десяток одинаковых голубоватых конвертов без адреса, видимо, доставленных нарочным. Он вскрыл пару-тройку наугад, откуда вместе с запахом иммортелей выпорхнули мелким бисером исписанные листки именной веленевой бумаги, одинаково заканчивающиеся далеко отстоящей от текста строкой: «очень любящая…»
Ольбромский поморщился. Он терпеть не мог всех этих «бриллиантов яхонтовых», уверений в вечной любви и прочих излишеств экзальтации петербургских эмансипе.
Разве существует мера любви? Будто можно ее проградуировать и при надобности всякий раз измерять, как по градуснику. Очень любить – значит любить мало. Можно ли чем-то дополнить его чувства к Розали, что-то к ним добавить? Он просто любит, ни больше ни меньше. Вне этого чувства уже ничего не существует, оно – весь мир и, как мир, самодостаточно и безмерно.
Из вскрытых писем выяснилось, что после бурных признаний, разрушенных иллюзий, проклятий и, наконец, угроз покончить с собой, «отомстить жестоко и неслыханно» это «разбитое сердце с печатью вечной любви» решило покинуть опостылевший свет и предаться безудержной печали где-нибудь за границей, скорее всего в Париже или в Ницце. Дойдя до такой развязки и весьма смутно припоминая виновницу чувствительных пассажей, Ольбромский не стал утруждаться чтением остальных писем.
Все, что происходило с ним когда-то прежде, вся его прошлая жизнь были теперь настолько далеки от него, будто он читал об этом в каком-то изрядно подзабытом и не слишком умном романе. Внешние события и происшествия теперь его мало трогали и занимали. Сосредоточенный на своих безрадостных ощущениях, он все больше уходил в себя, замыкался и не искал развлечений в обществе.
* * *Еще не оставила его хваленая гвардейская выправка, и как всегда безупречен и щеголеват был его гардероб, еще умел он с порога внушать уважение одной только манерой держаться, распространяя вокруг бодрящий запах дорогого «Шипра», и по-прежнему ни перед кем больше меры не склонялась его скульптурной лепки, седая теперь, голова. Но уже не было в нем прежней силы и потаенной игры жизни, не взблескивал в сумраке неукротимым светом жаркий вишневый зрачок, и весь он как-то осел, обратился внутрь, отчего стал казаться меньше ростом, старше и суровее.
С ним и раньше мало кто сходился накоротке, теперь же сумрачное его настроение, высокомерная холодность и вовсе не оставляли охотников к сближению. Заметив в нем перемены и хорошо помня бешеный нрав, в полку не особенно искали в нем откровенности и если не из деликатности, то из опаски отступились и оставили его в покое.
Сама отставка, давно обговоренная, пережеванная на все лады, обставленная, как и полагалось в таких случаях, всеми этими мальчишниками, загульными кутежами и откровенными попойками, как-то незаметно оказалась в прошлом и уже ни в ком не вызывала интереса.
Он жил теперь анахоретом. Обрывались прежние связи, сходили на нет когда-то тщательно поддерживаемые знакомства. Без сожалений он отказывался от приглашений, избегая встреч, которые не считал необходимыми, и шел на резкость там, где раньше был терпелив и снисходителен.
Все это в его уже незавидном положении отставника – не слишком именитого, не сколько-нибудь состоятельного, утвердившегося в свете лишь благодаря своим незаурядным качествам, воспитанию и уму, да перспективе в будущем устойчивой карьеры, – с ее бесславным завершением выглядело откровенным вызовом обществу, полным небрежением его правил и устоев.
Для дельного и здравомыслящего человека, каким хотели видеть в свете Ольбромского, такое поведение было не просто непозволительным, но и самоубийственным.
Ему ответили тем, на что он давно уже нарывался: от него отвернулись.
* * *В начале холодной и сумрачной петербургской весны к нему пришла короткая, в несколько строк весточка от Михала Бицкого.
Ни словом не упомянул тот о выходившем за всякие рамки приличия бессовестном молчании полковника, только сообщил вскользь, что Розали окончательно поправляется, выровнялась в настоящую барышню и, видимо, вскоре ему, как отцу, придется заняться будущностью дочери, поскольку вокруг немало достойных людей, начавших обращать на нее внимание. Дальше в письме деловито сообщалось о видах на урожай и шли приветы от Мадлен.
По сути, Бицкий провоцировал его на откровенность, ждал подтверждений, и Ольбромский прекрасно уловил настоящий смысл письма, эту тревогу, этот крик души, обращенный к нему. Но он предпочел отмахнуться, не захотел вникать в то, что взывало к нему между строк, и воспринял только внешнюю сторону, только слова о том, что у Розали могут быть поклонники, а с ними и выбор.
Что ж, он рад, так рад! С чего он вообще взял, что седой, старый, отживший, он будет ей действительно нужен, что с первыми же лучами весеннего солнца молодость не возьмет свое, что эта маленькая провинциалочка не играла с ним, не пробовала на нем впервые силу пробуждающейся женственности, что на другой день она еще будет помнить и думать о нем?
Какое дикое заблуждение! Как он мог так поддаться, так ослепнуть?
Наконец закончится это наваждение и все встанет на свои места.
Конечно, она найдет свое счастье с каким-нибудь новомодным напомаженным фертом, который сумеет обольстить ее своей яркой жилеткой; с линялым, поистратившимся в картишки отставным штабс-капитаном, умеющим нашептывать возвышенные банальности и сладко облизывающимся на ее свежее личико; с ухватистым белоглазым приказчиком с тусклыми прилизанными волосенками над сплюснутым лбом – отчего ж ей не быть счастливой?
И воображение рисовало ему, как везет ее к венцу в наемном экипаже этакое наглое самодовольное ничтожество, а вскоре уже и кричит на нее в спальне и помыкает при людях, вычитывает за каждую истраченную копейку, напивается по вечерам до скотского состояния в замызганном трактире и заставляет ублажать себя в непотребном виде на мятых нечистых простынях.
Таким будет твое счастье, Розали?
И когда через пару десятилетий эти белоглазые, с тухлыми рыбьими мордами расселись по кабинетам с черными эбонитовыми телефонами и снисходительно заговорили в третьем лице: вас слушают, гражданин э… э… э… Б-р-р, Б-р-ы, Ольбромский! – не вынимая из слюнявых губ вонючей цигарки, – как каменел и сужался его зрачок, как вскидывался подбородок и тяжелела кисть.
Извечная нутряная брезгливая ненависть к этим отмороженным упырям шла оттуда, из того дня, когда он явственно представил их будущую власть над своей жаркой Таврией, над собственной своей судьбой и судьбами близких людей, эту темную глухую силу, простершую свои костистые мертвые лапы на целые поколения вперед.