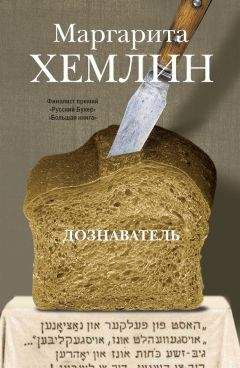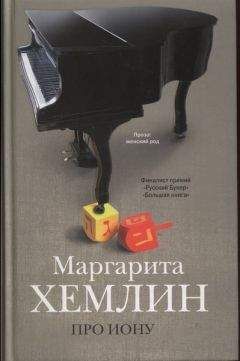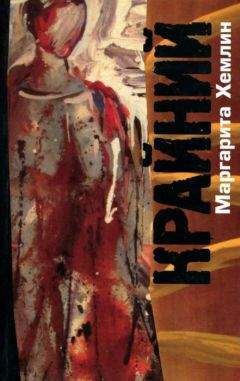Маргарита Хемлин - Про Иону (сборник)
Говорит:
– Слушаю внимательно.
Я рассказала про Эллу. Про ее общее поведение, ее идиотские выдумки. Про свое состояние.
Он выслушал молча, не перебивал.
Потом говорит:
– Майечка, вы ко мне как к адвокату пришли? Ведь нет же. Вы ко мне как к умному старому человеку пришли. Ну да. Я умный и старый. А что вам сказать, не знаю. По какой статье вас ориентировать. Скажу только: Элла и правда вам приемная. Вроде и не чужая, а и не вполне родная. Это такое поколение. Я думал. Она своего еврейства стесняется. Она за него отвечать не желает. Потому что ничего в ней еврейского нет. И у вас уже нет. Но вы с Мариком хоть за своих родителей отвечаете, у которых было. А с Эллы спросят – она ни за что ни про что отвечать должна.
Без вины никто отвечать не хочет.
Я не понимала, куда он клонит.
– Вы, Майечка, вот что сделайте. Отойдите в сторону на время. Пусть Элла что хочет, то и придумывает. Пусть распространяет, так сказать, панические настроения. Она маленькая, она переболеет этой паникой. Детям всегда страшно от всего. Вот и ей страшно. Ей страшно от того, что она оказалась еврейка. Все дети боятся темноты. А еврейство для детей вроде темноты, если не вникать. Объяснять бесполезно. Поверьте. Просто отойдите и ждите молча, когда свет заморгает сам собой. И лучше вы мне мезузу, которую я вам подарил, принесите. Завтра же. Нечего ей у вас в квартире делать. Верните ее мне.
Сказал и замолчал. Дышит трудно, как лошадь.
Я, чтобы разрядить обстановку, говорю с улыбкой:
– А правда, что вы с самим Григорием Ивановичем Котовским были знакомы?
Ничего не ответил, только стал рукой стряхивать пылинки со скатерти. А никаких пылинок не было.
Последние его слова ко мне такие:
– Мне ваш приход – такая ценность, что и сказать невозможно. Мне на вас, Майечка, посмотреть в последний раз и ничего дальше уже ждать не надо. Идите домой и ничего не бойтесь. И Эллу свою не бойтесь. И Мишу. И Марика. И себя в первую очередь не бойтесь. Идите.
Вот так. Напустил темноты. Ему что? Ему ничего.
Дома я долго искала мезузу. Решила в конце концов спросить у Эллы.
Элла сразу призналась с гордостью, что отдала «еврейскую железку», как она выразилась, в металлолом. При первом же мероприятии в новой школе.
А там одного серебра на сотни рублей. По тогдашним ценам. Помимо исторической памяти.
Я ничего не сказала. У меня язык отсох. Как Бейнфест приказал, так и отсох. Я отошла далеко-далеко в сторону.
А в какую – лучше не размышлять.
Но дело не в этом.
Наутро домработница Бейнфеста позвонила с извещением: Натан Яковлевич умер.
На похоронах ни я, ни Марик не были – так распорядился покойный.
Его домработница – обыкновенная, деревенская, зашла к нам, принесла ключи, жировки, свидетельство о смерти. Попрощалась, как будто заходила продать крынку молока, и пошла себе в неизвестном навек направлении.
Но дело не в этом.
Нина Рогулина бывала у нас почти каждый день. Они с Эллой очень сдружились. Элла верховодила, Нина подчинялась.
Марик работал в мастерской на Арбате и дома по вечерам.
Починил наконец-то шахматные часы. Хвастался.
Я стучала на машинке, ничего не слышала вокруг. И молчала.
Как-то рано утром раздался крик Эллы.
– Мамочка! Мамочка! Помоги! Спаси меня, мамочка!
Я умираю!
Я в полусне бросилась к ней.
Элла сидела на кровати. Толстые ноги раздвинула так, что было видно – вся в крови. То есть сначала я подумала, что Элла налила краски. Может, специально, может, случайно.
Она говорила быстро, громко, шепотом:
– Я ничего там не делала. Честное слово. Оно само. Из меня выходит кровь. Я умираю, мамочка. Я умираю. Я хотела в туалет по-маленькому. Только по-маленькому. Оно само. И животик болит, и спинка болит.
Элла говорила, как маленькая девочка. Как в те времена, когда я была с ней счастлива на море и она была худенькая и красивая.
Я крикнула Марику, чтобы вызвал скорую.
– Доченька, успокойся! Ничего страшного. Сейчас врач приедет.
Про гнойный аппендицит подумала, про прободение какое-нибудь подумала, черт знает про что подумала. А про месячные не подумала.
Скорая приехала быстро. Тогда еще пробок не было.
Посмотрели, успокоили.
Врач – старая женщина, отвела меня в сторонку и говорит:
– У девочки рано началось, ничего страшного. Бывает. Раннее созревание. Объясните ей по-матерински, по-женски.
Я извинилась, что, получается, напрасно побеспокоили.
Но врачиха заверила:
– Лучше лишнее побеспокоить. И знаете, ей запомнится такой факт. Это все-таки событие в жизни каждой женщины. Рубеж.
Я прилегла рядом с Эллой на ее кровать. Прямо на испачканную простыню.
Прижала девочку к себе и сказала:
– Доченька, ты теперь будешь совсем другая. Прошлое ушло вместе с кровью. У каждой женщины уходит. И у тебя уйдет.
Элла лежала рядом, вроде просто обнимала меня за шею, а вроде душила.
– Ой, мамочка, я так тебя люблю! Так тебя люблю!
Я девочкам в классе расскажу, они не поверят. Мы обсуждали, но некоторые говорили, что бывает не у всех.
А только кто красивый, и будет выходить замуж, и ложиться с мужем в постель. Чтобы потом делать детей. Я уже все знаю.
Я попыталась отодвинуться, но Элла крепко держала меня всей рукой, согнутой в пухлом локтике.
Вся моя жизнь сосредоточилась на буквах и цифрах. Я не покупала себе обновок, хотя у меня появились приличные деньги, никому не подотчетные. Тратить их не хотелось.
Из Остра вестей не поступало.
От Миши – раз в две недели короткая записка незначащего содержания.
Так прошел год.
Из Остра – ничего.
Я не беспокоилась, так как понимала, если что – сообщат. Всегда каким-то образом если что – сообщают.
В отпуск Миша не приехал.
Написал, что отказался по уважительной причине, которую объяснять по военным соображениям не имеет права.
В семьдесят первом осенью мы ждали его возвращения.
Но он написал, что с товарищем направляется в Мурманск устраиваться на рыболовный сейнер – их там ждут.
Да. Ветер странствий.
На родительские собрания в школу к Элле ходил Марик и приносил мне односложные вести:
– Нормально.
Что нормально, кому нормально?
Ладно.
Элла рисовала днем и ночью. Иногда я заглядывала в ее комнату и смотрела.
Ничего не понимала. Но Зобников время от времени звонил и хвалил. С ним у меня установились странные отношения. Телефонные беседы он вел, только когда был выпивший. Я почему-то его слушала.
Однажды мы столкнулись на улице возле булочной, через дорогу от нашего дома. Он ел калорийку. Увидел меня, застеснялся.
Я его ободрила улыбкой и заговорила первой:
– Вот и встретились. А то по телефону и по телефону. Как моя Эллочка? Какие новые успехи?
– Успехи замечательные. Найдите ей хорошего частного учителя. Ей надо поступать в художественную школу. У нее будущее. – А сам недоеденную булочку засунул в карман и вытер руку о пиджак.
– А вы что же, Петр Николаевич, не учитель, что ли? – Мне хотелось продолжить в шутливой форме, но Зобников помрачнел.
– Какой я учитель? Ей нужно устраивать блат уже сейчас. Ей нужен член Союза художников, со связями. А у меня связей нет.
– Так помогите, найдите, порекомендуйте.
– Буду стараться.
И поклонился, вроде я ему поставила задачу как старшая по званию.
Я засмеялась. Не от веселья, а от жалости. Немолодой человек, ест булку на улице. Пиджак засаленный. Туфли скособоченные. Рубашка мятая. А ведь учит прекрасному. Каково ему в подобном виде.
– Давайте с вами прогуляемся, Петр Николаевич.
Я предложила в надежде, что он откажется. Не отказался.
Гуляли долго: и по Пятницкой, и по Ордынке. Молчали.
На Ордынке Зобников говорит:
– Вот тут у меня товарищ по академии работает. Реставратор. Зайдем сейчас, я с ним познакомлю. Он перед вами, Майя Абрамовна, не устоит. А он знаменитый. Он для Эллы кого-нибудь найдет.
Зашли за кованую ограду. Бывший монастырь, церковь. Все обшарпанное, облупленное.
В одной из комнаток – тот самый друг-реставратор.
Зобников меня представил.
Так я познакомилась с удивительным человеком.
Юрий Васильевич Канатников вошел в мою жизнь вихрем. Он покорил меня своей внимательностью, культурой, широтой кругозора. Как и предполагал Зобников, Юрий влюбился в меня практически с первого взгляда. Несмотря на свой немолодой возраст.
Конечно, у него были жена и дети, даже внук. Но наши сердца рвались друг к другу сквозь бытовые и семейные осложнения.
В данном случае совершенно не стояло проблемы, где встречаться. Квартира Бейнфеста стала нашей тихой гаванью. Мы не строили планов. Хоть мне как женщине хотелось услышать именно планы.
Что касается Эллы, то Юра действительно принял в судьбе ее таланта хорошее участие. Высоко оценил. Особенно цвет. Нашел преподавателя. Элла творчески росла.