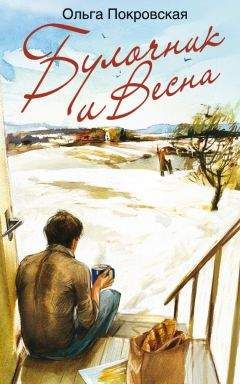Ольга Покровская - Пока горит огонь (сборник)
Он дернулся, но смолчал. Понимал, что Ирина и не могла иначе судить о происшедшем, для нее все это были звенья одной цепи: их развод – его связь с Верой – тюрьма. Ему нечего было ей сказать, нечем утешить, незачем объяснять, как все произошло на самом деле. Теперь он яснее, чем раньше, понимал, что та, старая, жизнь закончилась безвозвратно, а новая… Вероятно, и новая закончилась тоже. Просто он не хочет себе в этом признаваться, цепляется за нее с отчаянием зависшего над пропастью, выдумывает какие-то бессмысленные зацепки, за которые можно было бы удержаться – отчаяние, ярость, месть. Пока еще ему слишком страшно осознать, что все действительно кончилось, осталась лишь черная пустота, и ничего больше не имеет значения.
Он сказал лишь:
– Не навещай меня больше, не надо. Что тебе сюда мотаться?
– Ты хоть сыну что-нибудь передай! – всхлипнула Ирина.
– Сыну?
Он потер ладонями лицо. Что он мог сказать сыну? Держись за жизнь, не оглядывайся, торопись, живи моментом, ведь ты не знаешь своего срока, не можешь предугадать, когда все закончится? Именно так он и поступал всегда, и вот к чему это его привело. Нет, он не жалел о содеянном, но сыну своему желал другой судьбы. И в то же время искренне пожелать ему быть осторожным, осмотрительным, не отдаваться ничему до конца, всегда иметь в загашнике запасной вариант – не мог, понимая, что сам не верит в эти пресные добродетели.
– Я напишу ему, – наконец выговорил он. – Напишу, когда смогу. Передай только, что я люблю его и помню о нем.
Ирина горестно покачала головой. Он смотрел в ее исплаканное, разом постаревшее лицо, видел запавшие, в красных прожилках, глаза, слезинку, как будто приклеившуюся к щеке, и понимал, что не помнит ничего, что их связывало. Их первое свидание, свадьба, рождение Егора, долгие разлуки и радостные встречи – все это было как будто не с ним, в другой жизни. Сейчас он лишь жалел эту несчастную заплаканную женщину, жалел – и не знал, чем ее утешить.
Больше к нему никто не приходил.
* * *Он снова и снова вспоминал то лето, их единственное с Верой лето, каждый день, каждую минуту. Вот они на берегу лесного озера. Воздух пахнет жаром и хвоей. Вера, обнаженная, выходит из воды, и солнце окутывает ее дрожащим золотом, сверкая в каждой капле, оставшейся на ее гладкой теплой коже. Она нагибается и, смеясь, брызжет на него, разгоряченного солнцем, водой.
Вот они, все втроем, пьют чай в кабинете отставного полковника Голубева. Темно-янтарный, крепкий и терпкий, разлитый в хрустальные стаканы в серебряных подстаканниках. Вера ставит на стол потемневшую от времени витую сахарницу с белоснежным колотым сахаром.
Старый полковник посматривает на них из-под косматых бровей. Они с Верой очень стараются держаться друг с другом холодно, равнодушно, шифруются, как могут, очень вдумчиво обсуждают какие-то дела фирмы. И вдруг хитрый черт изрекает своим сорванным солдафонским голосом:
– Ну и что, стервецы, когда свадьбу сыграем?
Олег отставляет стакан, смотрит на него обалдело. А Вера смеется и обнимает отца:
– И давно ты нас вычислил?
Полковник ворчит с деланой суровостью:
– Как вас не вычислишь, конспираторы хреновы? Между вами и стоять страшно – искры летают.
Он хмуро, торопливо, как будто боясь, что кто-то заподозрит его в старческой сентиментальности, притягивает к себе голову дочери, целует ее в висок. Олегу же бросает:
– Смотри мне, обидишь девку, я с тебя шкуру спущу.
Вот они, смеясь и подначивая друг друга, заходят в старую, еще с советских времен оставшуюся в парке будочку тира. Здесь темно после яркого летнего дня и пахнет почему-то столовским гороховым супом. Сонный мужик за деревянной стойкой отсыпает им крошечных свинцовых пулек в пластмассовую крышку от банки. Вера, прищурив левый глаз, целится, плавно нажимает спуск, выстрел – и немедленно там, за стойкой, звякает колокольчик и начинает крутиться картонная мельница.
– Молодец! – хвалит он. – Ты прямо Вильгельм Телль.
– Ха, а ты думал? Кого в детстве родители в цирк водили, кого в кино, а меня папаша каждые выходные в тир таскал. Я в этом деле мастер.
Она отворачивается от него, снова прищуривается и стреляет – на этот раз в двух деревянных зайцев, раскачивающихся на качелях.
Вот душная летняя ночь ползет по комнате, в его съемной квартире на Солянке. Он просыпается со стоном, весь в поту, долго не может отдышаться. Недоверчиво вглядывается в белеющие в душной черноте за распахнутым окном старые московские здания – с высокими стрельчатыми окнами, квадратными балконами, огороженными приземистыми пузатыми колонками, изломанными водосточными трубами, псевдоантичными барельефами. И поверить не может, что только что увиденное было лишь сном.
Ему снилась Чечня: круто взбиравшаяся вверх узкая горная дорога, едва подернутые зеленью отвесные склоны. Высокое бесконечно-синее небо. И грубо раскорячившаяся на асфальте чадящая туша опрокинутого автобуса. Бородатые люди в камуфляже копошились под ней, пытаясь выбраться из клубов пламени. Он видел, как одному удалось вылезти, как он, подволакивая перебитую ногу, медленно полз вперед, оставляя на пыльной каменистой дороге бурый, вязкий кровавый след. Лица ползущего, скрытого тенью, измазанного сажей, он различить не мог. Вскинул руку, прицелился, спустил курок – и за долю секунды до того, как голова человека превратилась в кровавое месиво, он вдруг приподнялся и посмотрел на него. От взгляда этих черных глаз – ненавидящего, почти мертвого, страшного – он и проснулся. Тут же ощутил блаженное прикосновение прохладных губ ко лбу.
– Тише! – шепнула Вера. – Все хорошо! Тебе просто приснилось…
– Сон, – хрипло подтвердил он, еще не окончательно совладав с голосом. – Снится всякая дрянь.
– Расскажи мне? – попросила Вера, легко целуя его пылающие веки.
Он почти не видел ее в темноте, только ощущал легкие прикосновения ее рук, пальцев, губ.
– Так, про Чечню. Тебе не стоит этого знать, – помотал головой он.
Но она настаивала, и он для чего-то принялся рассказывать ей то, что мучило его многие годы. Про ужас и бессмыслицу человеческой бойни, про горящие жилые дома и рыдающих в грязи женщин, про необходимость исполнять приказ бездумно, механически. Про то, как становишься постепенно уже не человеком, а неким придатком к автомату, начинаешь мыслить взводами и подразделениями, забывая, что каждый из них состоит из человеческих жизней, из мальчиков, которых ждут дома матери, сестры, жены. И на другой стороне – те, другие мальчики. И их так же ждут и любят.
Вера слушала его чутко, не перебивая, лишь гладила ладонями его пылавшее лицо. Наконец, он, выговорившись, замолчал, и она произнесла:
– Так не должно быть. Война не должна уносить жизни мирных людей, это неправильно, несправедливо. – И тут же поправила сама себя: – Нет, не так. Ничью смерть нельзя оправдать – война неправильна и несправедлива вся целиком. И знаешь, я сейчас поняла, что нет там правых и виноватых, точнее, все виноваты одинаково, обе стороны. И каждый, кто сражается на любой из сторон, виноват тоже.
И он крепче прижал ее к себе, целуя мокрые от слез веки.
Она перевернула его душу то ли своим упрямым, непримиримым характером, то ли неподдельной честностью, благородством натуры. А может, его зацепила ее способность к искреннему сопереживанию, сочувствию. Она появлялась в его квартире свежая, душистая, то пронизывающе нежная, то страстная, горячая. Иногда казалась похожей на маленькую девочку, и тогда его сердце заходилось от пронизывающей жалости к ней, иногда, как матерая львица, набрасывалась на него, заставляя его чувствовать себя чуть ли не дичью, захваченной хищницей.
Он был так безоговорочно, через край счастлив тем душным летом, что не заметил, не ощутил приближения беды. Почти равнодушно выслушал разгневанного полковника Голубева, сообщившего, что сын Баркова, нанюхавшись кокаина, пострелял кого-то в клубе, и взволнованный папаша теперь требует, чтобы телохранители пацана – сотрудники агентства «Витязь» – взяли вину на себя, показали в милиции, что на отпрыска большого человека напали и охрана вынуждена была открыть стрельбу по нападавшим.
Отставной полковник мерил тяжелыми шагами кабинет в квартире на Тверской, угрожающе двигал массивной квадратной челюстью, грозился кому-то:
– Я его, суку, в порошок сотру. Упустил пацана, вырастил черт-те что, а кругом теперь все виноваты. Да разве дам я своих ребят под статью подводить из-за какого-то раззолоченного куска говна?
Олег слушал не слишком внимательно. Случившееся казалось ему рядовой проблемой для охранного бизнеса, проблемой, которая лично его не касалась. Он ведь отвечал только за подготовку ребят, за их навыки, а ведение переговоров с клиентами в его обязанности не входило. Более того, он ведь говорил тогда, после разговора с Верой, старику, что считает опасным связываться с уркаганами. Голубев только плечами пожал: