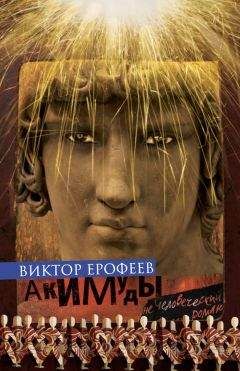Сергей Лебедев - Люди августа
Эшелон мертвецов, преломленное его отражение… Для бабушки он был раной, а для меня – уже знаком, образом, напоминанием, ведь явился во второй раз. Я вдруг понял, почему бабушка Таня не написала ни слова осуждения о тридцатых годах: она, вероятно, осознавала, что такое будущее они породили себе сами еще в Гражданскую, желая, чтобы вернулся порядок, обещая в мольбах заплатить за него любую цену.
Какой тщетной, ненужной была наша с Марсом победа; зачем мы ее одержали? Зачем?
С какой ясностью я мог представить женщин, юных, как бабушка Таня тогда, ищущих в вагоне-рефрижераторе мужей, отцов, братьев; им еще предстояло взрослеть, жить, стареть, рожать детей – и невольно тянуть роковую нить давнего ужаса, предопределяющую будущее…
Я вышел наружу, спустился по дребезжащим ступенькам. В дальнем углу двора врач в халате разговаривал с девушкой. К нему подошел санитар, указал на меня; врач сказал еще несколько слов собеседнице и пошел мне навстречу. Девушка пошла за ним, что-то говоря ему в спину; он остановился, стал ее в чем-то убеждать.
Голова ее была покрыта темным платком; длинное темное платье, похожее на хитон, целомудренно облегало фигуру; прорисовывались грудь, бедра, но так сдержанно двигалась она, словно плоть ее расторгла связь с желаниями и страстями. «Сосуд скорби», – произнес я про себя неизвестно откуда взявшиеся высокопарные слова. Светлые кудри, выбивавшиеся из-под платка, вились безжизненно, словно даже из волос ее ушла сила женской страсти, словно была она только безутешной дочерью, весталкой, ничьей женой.
Я рассматривал ее издали. Если бы я приехал на пятнадцать минут раньше или позже, мы бы разминулись; но теперь нас было двое в смертном дворе – врач не в счет, он как Харон. Мы оба заходили в вагон, оба унесем с собой то, что узрели там; в любом месте, если мы встретимся вновь, мы будем двое.
Вот врач снова закончил разговор, повернулся, зашагал ко мне; девушка снова пошла за ним, словно не хотела, не могла отпустить свою надежду; кого же она ищет здесь? Жениха, отца?
На этот раз они стояли уже близко, я слышал разговор.
– Многих до нас просто не довозят, – говорил врач. – Это, – он махнул рукой на вагон-рефрижератор, – капля в море. Те, кому, – он криво усмехнулся, – еще повезло. Ищите как-то по-другому. Матери вон в саму Чечню ездят.
Девушка молчала. Врач подошел ко мне, сказал бегло, чуть раздраженно:
– Сейчас, подождите чуть-чуть.
Девушка, как привязанная, следовала за ним.
– Вот мужчина тоже ищет, – сказал врач ей с фальшивой участливостью. – У него спросите.
Девушка подняла на меня глаза, впервые заметив, что они с врачом не одни. И я, понимая, что она в состоянии близком к трансу, к обмороку, она не уйдет, ее внимание надо как-то переключить, протянул ей свою визитку и сказал:
– Я в Москве. Позвоните. Может быть, я смогу вам как-то помочь, – сказал, понимая, каково ей, и думая, что, если она все-таки позвонит, я спрошу совета у Марса – наверняка он что-то знает; почему-то мне показалось, что девушка разыскивает отца-офицера.
– Спасибо. – Она держала визитку за самый уголок, пальцы мелко дрожали.
Врач быстро попрощался и кивнул мне: идем. На ходу я обернулся. Девушка медленно шла прочь из двора. Я чувствовал, что она кого-то напоминает мне, не конкретную женщину, а, скорее, женский образ, о котором я читал, который встречал в стихах, – только не мог понять, какой; что-то забытое, давнее, мифическое, заслоненное другими; образ редкий, как бы стоящий поодаль от обыденной жизни чувств.
Врач, кажется, был недоволен, что санитар ошибся и завел меня в вагон-рефрижератор. Он шел быстро, поторапливал меня:
– Пойдемте, пойдемте, а то сейчас еще кого-нибудь нелегкая принесет.
И я вдруг почувствовал к нему неприязнь за то, что он, может быть, не всем, чем мог, помог девушке, затерявшейся для него в каждодневной череде посетителей.
В его кабинете я заметил открытую коробочку карманных шахмат: видимо, отдыхая, врач разыгрывал какую-то партию. В другой ситуации я бы схулиганил, предложил сыграть блиц – но после вагона мертвецов не мог смотреть на пешек и офицеров.
Накануне я сказал врачу по телефону, что разыскиваю Песьего Царя, мне его рекомендовали как прекрасного кинолога, и буду рад любым зацепкам из его биографии – может быть, он вернулся в родные места; про то, что Песий Царь мертв, я, разумеется, не говорил.
Врач, кажется, был рад немного отвлечься, вспомнить прошлое время, когда ему не приходилось возиться с неопознанными трупами. Он рассказал, что в колонии не было ветеринара, он помогал Песьему Царю лечить собак и потому знал о нем больше, чем другие; сдружиться они не сдружились, но говорил врач о бывшем приятеле дружелюбно.
Я спросил насчет лесной деревушки то ли в Белоруссии, то ли в Украине, откуда якобы Песий Царь был родом. Врач понятливо усмехнулся, сказал:
– Да, рассказывал он такую историю. Но на самом деле был из Казахстана. Рос без отца.
– А где он родился, не помните? – спросил я.
– Не помню, – ответил врач. – Может, он и не говорил. Хотя… Он что-то такое про детство вспоминал. Городок был среди пустыни. Развлечений никаких. Только ракетные пуски. Ночью ракеты с полигона запускали, фейерверк вроде как получался, салют…
– С полигона? – переспросил я.
– Да-да, – подтвердил врач. – Сейчас вспомню, у меня память хорошая. Люблю кроссворды отгадывать. Сейчас-сейчас, там название такое характерное. Абакан. Стакан. Таракан. Такла-Макан.
– Сары-Шаган? – спросил я.
– Вот-вот, Сары-Шаган, – ответил врач. – Бывали?
– Бывал, – сказал я. – А как его фамилия?
– Кого? – не понял врач.
– Песьего Царя.
– А я думал, вы знаете, – протянул он как-то разочарованно. – Он из этих. – Врач указал взглядом в каком-то неопределенном направлении за окно. – Гороев. Кавказская кровь. Потому, наверное, его так собаки и слушаются.
Я поблагодарил врача, оставил подарок, бутылку хорошего коньяка, и вышел из кабинета.
В коридоре меня накрыло. Перед глазами встали строчки бумаги из карагандинского архива; уголовное дело Кастальского, фамилии его подельников. Гороев – среди них был Гороев. Ссыльный горец, офицер, подельник Кастальского, убитый в перестрелке и похороненный в Бетпак-Дале. Второй секретарь говорил, что у кого-то из банды был сын в Приозерске, прижитый с местной женщиной. Приозерск близко к полигону, как раз оттуда лучше всего видно взлетающие ракеты.
Гороев, сын Гороева. Мать вполне могла оставить ему фамилию убитого отца – в тех местах на это смотрели спокойно. Он вырос среди лагерной системы и, чтобы не повторить судьбу отца, спрятался от нее внутри самой системы. Сбежал из степи, из пустыни в лес, схоронился в лесу. Сын ссыльного, погибшего от пули вохровцев, – стал вохрой.
И отец отомстил ему, моими руками отомстил, достал с того света!
Дальше помню только пляску ламп на потолке, взбесившиеся стены, пульсирующий узор линолеума; добрый, сладкий холодок из иглы, голос издалека – спокойно, парень, спокойно.
Наверное, я был не первый, кого приходилось приводить в чувство после опознания, и все подумали, что со мной истерика, виноват вагон с мертвецами.
А я видел перед глазами исковерканные тела солдат. Радуется ли Гороев-старший там, на Бетпак-Дале, в каменной своей могиле? Ведь это за его смерть, за его высылку смертно мстят сейчас чеченцы русским, хотя высылали советские.
Слепое прошлое управляет слепым настоящим. Я думал, что мы – дети слепых; а мы слепые дети слепых.
Каин в народе убил Авеля в народе. Все мы – потомки Каина… Все – с каиновой печатью. Каиновы дети, которые пропали из истории, нет дальше про них ни слова в Библии.
Я наговаривал, нашептывал себе все это, шагая по гостиничному номеру из угла в угол.
Что мне теперь делать, куда пойти исповедаться, как понять свою вину? Есть ли она, эта вина, или все было предопределено, и в этом смысле я не виновен, я просто звено в роковой цепи, которому назначено быть звеном?
Глава XII
Прилетев в Москву, я сказал себе, что заниматься поисками больше не буду, кто бы ни просил. Надо предупреждать об этом посредников, менять номер телефона, который знают, наверное, уже тысячи людей, иначе меня еще долго будут дергать просьбами.
Бодро, бодро проговорил я это – и понял, что никому не позвоню ни сегодня, ни завтра, буду оттягивать окончательное решение.
Как Песий Царь, я был никто без своего дара. Впервые я почувствовал, сколь глубоко изменили меня мои занятия; словно маг, я извлекал из небытия судьбы, соединял разорванные нити, возвращал лица – и привык уже как врач, как священник стоять над жизнью, невозбранно заступать за покровы бытия.
Страх стать «простым смертным» боролся со страхом, что история Песьего Царя может повториться, я вновь окажусь невольным убийцей. И постепенно, постепенно я так настроил себя, что стал переживать гибель Песьего Царя как нелепую, ненужную случайность, брак в работе высших сил. А это позволяло уже не считать роковой траекторию, соединившую через меня две жизни.