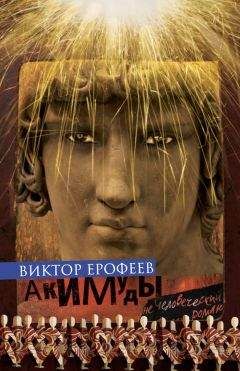Сергей Лебедев - Люди августа
…Вот так же возникла и новая общность, внезапно обнаруженная мной: силой хода событий. И хотя я старался мысленно отъединиться от этой общности, я понимал, что на мне стоит невидимая метка; и еще вопрос, что она означает, какая роль мне отведена.
Метку поставила охота на Песьего Царя; без меня Марс, скорее всего, даже не догадался бы, что Песий Царь существует. И постепенно во мне стал пробуждаться жутковатый интерес к нашей невольной жертве: кто он был? Где получил свой дар? Почему пошел в лагерную охрану? Я чувствовал, что копать в эту сторону не надо, но все чаще и чаще думал о лесном отшельнике, словно, проникнув в его прошлое, мог бы снять с себя грех соучастия; понять Песьего Царя означало – парадокс! – оправдаться перед ним.
Я не верил в пересказанную Кириллом историю про лесную деревушку и служебную собаку по кличке Факел. Как и бабушкина история про деда Михаила – секретного радиста, она была сочинена в контексте одной эпохи и обнаруживала свою нарочитость в другой. Значит, Песий Царь имел какую-то тайну; это было уже привычное мне поле семейной истории. Может быть, он ничего и не знал о себе, создал эрзац-родословную, и я могу оказать ему посмертную услугу, открыть о нем значительно больше, чем ведал он сам.
Я, как делал это уже десятки раз, начал наводить справки.
Оказалось, что документация колонии то ли списана, то ли пропала в течение ведомственных реформ. Бывшие охранники исчезли, их разбросало по стране; одни ушли на пенсию, другие нашли новую работу; а в центральную картотеку МВД у меня хода не было. Нашелся только бывший врач колонии – заядлый шахматист, он переписывался с тем любителем заочных турниров, которого мы встретили в лесном поселке.
Врач жил теперь в Ростове; я разыскал его телефон и позвонил. Не зная, как объяснить, кто является предметом моего интереса, я начал объяснять про кинолога. «Песий Царь?» – переспросил голос в трубке. «Песий Царь», – подтвердил я. Я мог бы попытаться разузнать все по телефону, но знал, что так будет трудно добиться откровенности, и договорился о встрече.
Я прилетел в Ростов 2 сентября, в понедельник; помню это потому, что на улицах утром было множество детей с букетами.
Адрес, продиктованный мне, оказался окружным военным госпиталем. В гостинице, переодеваясь, я включил телевизор; передавали новости, мелькали фуражки и папахи, генерал Лебедь, Аслан Масхадов – в Хасавюрте подписали мир. Я подсчитал в уме – вывод войск начнется 23 сентября и должен завершиться до 31 декабря; быстро, слишком быстро, словно отыграли спектакль и срочно убирали декорации со сцены. Я радовался миру, но каким-то он был ненастоящим; полтора года, даже чуть больше, стреляли друг в друга, бомбили авиацией города, резали головы пленным, а вдруг оказалось, что все это можно прекратить за один-единственный день; мир ли это?
Таксист привез меня к одному из КПП госпиталя; город от него заслонился, вытолкнул на отшиб, окружил промзонами, гаражами, бетонными заборами. Наверное, где-то был парадный вход с постом, с помпезными воротами, с флагом; но мы заехали откуда-то с боку, с черного хода, словно в нелегальную фирму.
На территорию госпиталя уходили железнодорожные пути; я сперва удивился – зачем? – а потом представил, на войну какого масштаба был рассчитан этот окружной госпиталь, в каких количествах предполагалось поступление раненых; какими виделись будущие сражения генералам шестидесятых и семидесятых, какие потери они закладывали в свои стратегии и доктрины.
Тем летом, в июле, отец попал в больницу на две недели. Навещая его, я заметил, что больничная мебель обезьянничает, перенимая недуги пациентов; стул страдает ревматизмом, подставка для капельницы – остеохондрозом; форма увечий становится формой и для предметов, но этого никто не замечает, ни больные, ни персонал.
А здесь во дворе, куда мы вошли, громоздилась куча отслужившей свое мебели, сломанной, погнутой, разбитой – как будто война жила внутри раненых солдат, война колотила гипсовыми культями по спинкам и подлокотникам, гнула металл коек, вырывала с шурупами дверцы тумбочек; отголоски ее, последние судороги принимала на себя эта мебель.
Еще на КПП я сказал, к кому иду; охрана звонила куда-то, сверялась со списками, потом мне выписали пропуск и дали провожатого, санитара из солдат. Я обратил внимание, что, кажется, я не первый и даже не десятый посетитель к этому врачу; меня не спросили, кто я, зачем, откуда, имя врача словно распахнуло коридор, прочертило натоптанную тропу, по которой ходили до меня сотни и сотни визитеров.
Мы пошли какими-то проходными, узкими лазами меж заборов, отворили десяток дверей, будто углублялись в лабиринт, и наконец вышли в еще один двор.
Он, кажется, был построен раньше госпиталя. Его окружали строения из красного кирпича, старого красного кирпича, лет сто еще назад потемневшего от паровозной копоти. В этот-то двор и вели рельсы, в углу стоял вагон-рефрижератор – к нему и повел меня санитар; я подумал, что это, наверное, какая-то лаборатория на колесах.
Мы поднялись с санитаром по узкой лесенке; пахнуло ознобным ледяным ветерком, биением изношенных холодильных аппаратов. И сначала я не узнал, не понял, что вижу.
В сущности, в том вагоне не было тел, трупов, мертвецов; труп – это все-таки что-то цельное, лишь пробитое пулей и потому сделавшееся мертвым: жизнь утекла через круглую дырочку.
От одного солдата остались ноги по колено, руки по локти и голова – остальное просто исчезло. Тела пропали – наполовину, на треть, на две трети, обгорели и скрючились до размеров детских; из трех тел едва ли можно было составить одно. И разум останавливался – а где же остальное, куда делось, где рассеяно?
По телевизору в то время сообщали сводки боевых потерь; но их считали целыми числами, так, будто бы солдаты умирали ровно и аккуратно, такими, какими их призвали на службу. А в вагоне-рефрижераторе лежали человеческие дроби, отличающиеся знаменателем – половины, трети, четверти, пятые и шестые части от человека.
В официальных списках потерь благодаря счету на единицы возникало ощущение, что потерь на самом деле нет, – просто есть переход из живых в мертвые, но и мертвые исчисляются в положительных числах, а положительное число по своей природе знак наличия, а не утраты.
Здесь открывались действительные потери – пустоты на месте людей, беспощадный убыток плоти.
И, чтобы спастись от помешательства, разум сам собой складывал останки – тут нога, тут рука, тут недостающая брюшина, тут голова, тут плечо; составляют ли они одного человека или перемешались еще на поле боя, брошенные друг к другу взрывной волной?
И военные медики складывали жуткую эту головоломку, собирали людей из ошметков, но людей не получалось; выходило нечто, не могущее даже быть названным, – тело, труп, покойник; любое слово, которым ты попробовал бы назвать увиденное, уже не годилось, оно было цельным. Точнее всего было бы написать разорванные слоги – ло, тр, ойни, мертве, тве, уби, тый, ый, й, снова ойни, потом уп, тру, п, п, п, п, поко, йн, тел, ел, о, о, о, мертв, тв, тв, уби, уби…
Я понял, что это за место. В газетах и по телевизору глухо, как бы в сноске, упоминали, что неопознанные трупы солдат свозят в судмедлабораторию в Ростов. Но я, собираясь в путь, никак не связал врача, который служил теперь во внутренних войсках и был прикомандирован к госпиталю, сам госпиталь и лабораторию. Хотя я знал, что все это находится в Ростове, это были как бы два разных Ростова, и я ехал в тот, в котором лаборатории и вагона-рефрижератора не было.
– Смотрите, кто тут ваш, – спокойно сказал санитар. – Врач отошел, сейчас его позову.
Санитар думал, что я один из тех, кто ищет родных, и привел меня сюда…
Пожарный двор, пожарный двор из бабушкиного рассказа, куда прикатили с главной станции вагон мертвецов и выкладывали трупы на землю, – вот что увиделось мне. Словно он был один на все времена, этот двор, словно я мог увидеть сейчас в вагоне-рефрижераторе зарубленных призывников-красноармейцев, покойников 1921 года.
Бабушкин давний страх – искать своих в вагоне мертвецов, который вечно прицеплен к поезду русской истории, разбирать в окровавленных лицах родное.
Я думал, что он никогда больше не повторится; а другие, неизвестные мне, женщины входили в этот двор, в этот вагон, как входила она семьдесят пять лет назад в пожарный двор городка, окруженного антоновцами. И другим женщинам предстояло всю жизнь прожить под знаком этого страха, приносить жертвы, чтобы он не возвратился; я почувствовал, какой силой может стать такой страх, какое желание безопасности он может породить – и какую готовность отдать за нее все остальное.
Эшелон мертвецов, преломленное его отражение… Для бабушки он был раной, а для меня – уже знаком, образом, напоминанием, ведь явился во второй раз. Я вдруг понял, почему бабушка Таня не написала ни слова осуждения о тридцатых годах: она, вероятно, осознавала, что такое будущее они породили себе сами еще в Гражданскую, желая, чтобы вернулся порядок, обещая в мольбах заплатить за него любую цену.