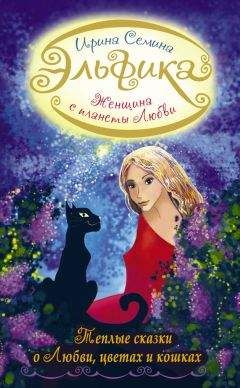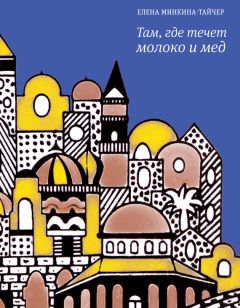Елена Минкина-Тайчер - Эффект Ребиндера
Девочка Нюля быстро привыкла к Левиным посещениям, явно ждала с последними школьными новостями и проблемами. Сочинения ей так и не давались. Надо признать, и темы были ужасные – набивший оскомину «Лишний человек», «Образ Татьяны как воплощение русского характера», «Картины природы в повестях Тургенева». Интересно, существует ли человек, дочитавший эти картины природы хотя бы до середины? Кстати, Сашка справлялась с подобной мурой прекрасно, строчила привычными обкатанными фразами про национальный характер Пугачева и царское самодержавие, разоблаченное великим русским поэтом М. Ю. Лермонтовым. А вот у Нюли не получалось, все она пыталась осмыслить, сказать по-своему. Например, в одной работе взялась сравнивала пушкинскую Татьяну с возлюбленной Печорина Верой, причем осуждала их обеих за жизнь с нелюбимым мужем, чем ввергла в полную растерянность пожилую учительницу литературы. В другой раз она обругала стихотворение «Пророк» за псевдориторику, Киру даже вызывали в школу, и они потом целый вечер обсуждали с Левой, как объяснить ребенку, что в школе нужно исполнять требования учителя, а не мыслить и рассуждать. В конце концов Лева выпросил у знакомой учительницы русского языка целую пачку готовых сочинений и велел Нюле переписать в тетрадку. Без размышлений и вопросов!
На улице рано темнело, вместе готовили что-то к ужину – жареную курицу, картошку, макароны по-флотски. На всякий случай Лева загрузил морозилку пельменями и сосисками – с продуктами в городе, как всегда, было плоховато.
Радовалась ли Кира его приходу? Да, конечно, радовалась, хотя при виде цветов на лицо ее набегала тень и даже смутное раздражение. Пусть! Главное – не пустота и безнадежность.
Они всё больше разговаривали, вернее, Лева говорил, а Кира слушала – про репетиции, выставки, предстоящие гастроли, последнюю книжку Вознесенского. Кире нравилась Ахмадулина, ее витиеватый странный стих, он полистал сначала из вежливости, но вдруг втянулся в длинные завораживающие строчки:
Ау, любезный друг, вот правила игры:
не спрашивать зачем и поманить рукою
в глубокий нежный сад, стекающий с горы…
У знакомого спекулянта Лева раздобыл редкую книгу Ахмадулиной. Спекулянт содрал 30 рублей, в пятнадцать раз выше номинала, но книга того стоила – плотный томик на хорошей бумаге, в прилично иллюстрированной твердой обложке. И называлась хорошо – «Уроки музыки». Кира страшно обрадовалась, пыталась вернуть потраченные им деньги, даже расцеловала. Очень весело и ласково расцеловала, как хорошую подружку, но он все равно задохнулся на минуту от прикосновения холодной нежной щеки, волос, губ.
Он уверял себя, что просто помогает, что Кире слишком горько сейчас, одиноко, тяжело справиться с внезапно осиротевшей девочкой. И это было правдой. И такой же правдой была их тайная все нарастающая близость. Он постоянно чувствовал ее взгляд, волнение, трепет протягиваемой руки, сам начинал ужасно нервничать и болтать чепуху. И эта случайная болтовня, анекдоты из жизни музыкантов, чай в старомодных тонких чашках, легкая метель за окном, зыбкий свет торшера, узкая горячая ладонь, тонущая в его чуткой руке музыканта, все томительно и неотвратимо сводило их, сплетало, связывало навек.
Потом оказалось, что у Киры есть мама и даже бабушка, они живут недалеко, в Гагаринском переулке, но бабушка очень плоха, часто впадает в беспамятство, почти невозможно оставлять одну в квартире. Поэтому само собой решилось, что Нюля временно переберется на Гагаринский, или, как теперь зачем-то переназвали, улицу Рылеева, тем более это совсем близко от ее французской школы.
Кирина мать Валерия Дмитриевна, совершенно нестарая красивая женщина, иногда заходила днем, приносила фрукты, редкие и дорогие в зимней Москве. При первом знакомстве она вдруг напомнила Леве его собственную мать – что-то в глазах, манере слушать, не улыбаясь. Но Валерия Дмитриевна выглядела намного моложе, наряднее, нездешнее изящество сквозило в каждом жесте. Вот кто был настоящей француженкой! Она не удивилась Левиному присутствию, только смотрела внимательно и грустно.
Они сблизились, и эта простая, естественная, как дыхание, близость совершенно потрясла и ошеломила Леву. Невозможно было понять и поверить, что он, увлекающийся и влюбчивый взрослый мужик, уже познавший и домашнее отдохновение, и волшебные варшавские страсти, и случайные приключения, полные легкой непристойности и озорства, что он сможет так тонуть и умирать от нежности. Каждый раз не находилось сил уйти, он тянул до полуночи, до последней минуты, и все равно возвращался с порога, целовал ее – уже дремлющую, теплую, прекрасную, прижимался щекой к щеке, гладил узкие ступни.
А ведь еще существовала прежняя жизнь, подрастающие дети, расстроенная уставшая Таня, репетиции, гастроли, ремонт крыши на даче, покупка новой резины.
Осталось так немного,
Всего один романс —
Казенная дорога,
Почтовый дилижанс…
Таня пропадала на работе, раскручивала новую большую тему, вполне могла получиться докторская. Ах, какая, к черту, докторская с ее фамилией! После смерти Ребиндера все покатилось в тартарары.
Танин профессор умер внезапно, от сердечного приступа, и она до сих пор страшно горевала, уверяла, что Петра Александровича довели, затравили, унизили. Хотя какая уж там внезапность – пожилой больной человек, страшная немыслимая жара летом 72-го, уже не первый инфаркт. Но были, были разборки на кафедре! То ли хотели закрыть одну из лабораторий, то ли еще что-то затевали, бездарное и ненужное – старый донкихот надеялся отстоять справедливость, готовился выступить на собрании. Опять собрание, вашу мать! Эта вечная идиотская вера в справедливость толпы.
Уже давно, сразу после израильской войны 1967 года, у многих знакомых евреев начались неприятности – не выпускали в поездки, закрывали темы диссертаций, сокращали ставки. Зиновию, мужу Таниной сестры, запороли готовую докторскую и отстранили от преподавания с тупейшей формулировкой – неучастие в общественной работе. Какая общественная работа ожидалась от кардиохирурга и ученого, никто не уточнял. Многие друзья с трудом сводили концы с концами, работали дворниками, кочегарами.
Наконец официально разрешили отъезд! Конечно, с лишением гражданства, публичным осуждением в коллективе – на все тех же собраниях, но разрешили. Невозможно было поверить! Вдруг в один момент избавиться от «недремлющего ока», патриотического бреда, эзопова языка в самых простых разговорах?! Неужели это возможно – увидеть Париж, Латинскую Америку, Японию? Просто выйти за глухую железную дверь и навсегда забыть удушающий серый мир? Серое небо, серые дома, серые газеты с портретами серых вождей… Уже самые отчаянные уехали, многие подавали документы, и Людмила с Зиновием всерьез заговорили про Израиль. Они страшно увлеклись иудаизмом и древней историей, запоем читали перепечатанную на машинке книгу Юриса «Исход», в доме постоянно звучали имена Бен Гуриона, Герцеля, Арлозорова. Ася Наумовна тихо плакала и все просила не шуметь и никому не рассказывать, чтобы Мишеньку раньше времени не отчислили из института.
«А мы? – как-то спросила Таня. – Что делаем мы?»
Это был тяжелый вопрос, и самым тяжелым было в нем слово «мы».
Да, все они, Таня, Ася Наумовна, дети, даже Людмила с Зиновием и вундеркиндом Мишкой были его домом, семьей, родней, так спасительно обретенной когда-то. И разве он, Лева, не служил своему дому верой и правдой? Квартира, машина, дача были честно отработаны, дети учились в английской школе, знакомый мясник за дополнительную трешку выносил с заднего хода кур и грудинку, на гастролях и в поездках удавалось купить что-то из нормальной одежды.
Но уже давно он стал ловить себя на странной мучительной тоске. Неужели это все, к чему можно стремиться? Даже вожделенные поездки за границу стали раздражать. Унизительное хождение в группе, пересчитывание жалких копеек, беганье по дешевым лавкам. Еще тогда, в пленительной Варшаве, ему пригрезилась другая жизнь, но это был обман, обман, как сама Варшава, как любовь Марии, как свобода с гирями на ногах.
Самое ужасное, что подрастающие дети усугубляли эту тоску, постоянно напоминали об уходящем времени. Особенно Боб, бодрый сорванец, с повадками маленького мужика, с нагло выпирающим члеником, который он с большим интересом изучал и осваивал. Еще недавно Лева таскал его на руках, грел ладонью вздутый животик, и вот этот тип уже с тихим пыхтением рассматривает голых красоток в где-то раздобытом «Плейбое». Сашенька, пухлое трогательное создание в кудряшках, живая игрушечка, его первый восторг, вдруг стала запираться в ванной, сбривать волосы под мышками. В движениях появилась волнующая женская грация, майки уже не скрывали прекрасную выпуклую грудь с трогательно торчащими сосками. И Лева цепенел от ревности при одной мысли, что скоро эту грудь тронет какой-нибудь юный урод.