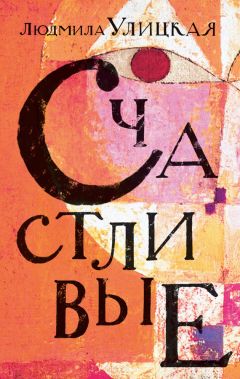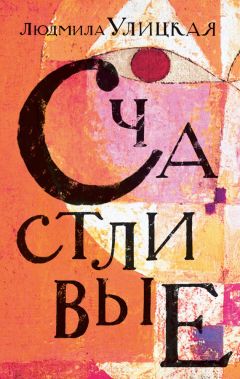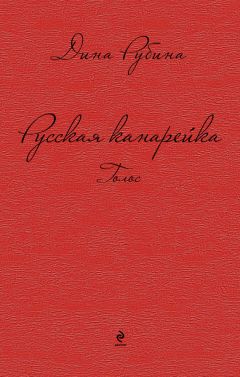Дина Рубина - Русская канарейка. Голос
Он взлетел по ступеням из подвала, юркнул в угол «задней комнаты», заваленной рулонами ковров, и включил еще одну низко висящую лампу. Присел на корточки – и замер над гривастым львом под золотой аркой из тяжелых кубических букв: «Дом Этингера».
Да-да, Барышня, сказал он ей пересохшим горлом, «за любую цену», – и потому, что редкость и гордость коллекции николаевского солдата Соломона Этингера, и потому, что название милое-дурацкое: «Несколько наблюдений за певчими птичками, что приносят молитве благость и райскую сладость», и потому, что напечатана в типографии полоумного графа Игнация Сцибор-Мархоцкого – вольнодумца-деспота, светоча врученных ему Богом малых народов, в родовом его уделе – в государстве Миньковецком. Господи, как тут не рехнуться…
В комнату заглянул Адиль, и Леон неторопливо поднялся, развернулся к старику и показал корешок.
– Я у тебя там, внизу, наткнулся… вот на это, – спокойно проговорил он.
– А, да, – отозвался старик, мельком глянув на книгу. – Курьез, ошибка переплетчика. Без начала, без конца… Не знаю, кому уже предложить, забросил ее совсем.
– Откуда она у тебя?
Адиль улыбнулся, покачал головой, подумал. Бывало, прежде чем ответить, он застывал на мгновение, как бы прислушиваясь к мыслям и намерениям: стоит или не стоит говорить. Умен был и осторожен чрезвычайно.
– Не помню. Может, от деда?.. Он в начале прошлого века был знаком с одним типом – Якуб Султанзаде его звали, купцом представлялся. Мутный человек, подозрительный… Торговал еврейскими книгами и какое-то время жил в доме дедова компаньона. Дед считал, что он шпион: говорил на многих языках, по-русски тоже. Исчез внезапно, не попрощался… Дурное воспитание, или кто ему хвост поджег? Дед потом всю жизнь плевался, когда его имя упоминал.
Леон помедлил, погладил корешок. И, будто минуту назад не горел страстным желанием выкупить фамильную реликвию «за любую цену», достал из кармана куртки свой охранный талисман (никогда с ним не расставался; выходя из дому, перекладывал из одного кармана в другой: тот зеленый фантик от карамели, от монаха-францисканца подарочек Барышне… «Белиссима!» – сказал монах, протягивая беспамятной старухе конфетку, и ее морщинистое личико расцвело грустной улыбкой).
Достал и вложил между восемнадцатой и девятнадцатой страницами.
– Адиль? – спросил. – Пусть она постоит тут на полке?
Тот взрослой своей рукой поднял джезву с огня, аккуратно склонил черную струю в одну чашку, затем в другую. Придвинул чашку к Леону и коротко сказал: – Пусть стоит.
И два года семейная реликвия Дома Этингера служила идеальным «дуплом» для его сообщения с двумя лучшими агентами – Куньей и Рахманом. Если агент просил встречи, зеленый фантик от карамели перемещался с 18-й на 20-ю страницу. Фантик, вложенный на 30-й странице, означал опасность. Смертельную опасность: ибо тридцать дней – «шлошим́» – душа умершего пребывает среди нас.
Именно на тридцатой странице, на смертельной опасности оставался сплющенный временем, прилипший к странице зеленый фантик, когда Леон, не веря своим глазам, медленно, как во сне, вытянул книгу из ряда прочих букинистических диковинок, любовно выстроенных хозяином на средней полке книжного шкафа. Вынул, до последней секунды надеясь, что это всего лишь удивительное совпадение, другой экземпляр, уникальный близнец его книги. Открыл – и уперся в тяжелые кубические буквы экслибриса «Дома Этингера», а быстро листанув страницы, обнаружил и чудом сохранившийся фантик от карамели…
(Все было сосредоточено в этой книге: его семья, его судьба, его память, его риск и ненависть; его любовь…)
Впрочем, его любовь в ту минуту стояла рядом, как обычно, положив руку ему на плечо – так она слушала его, когда не видела его лица. Беда была в том, что слышала она не только речь; эти чуткие руки слышали и учащение пульса, и, кажется, даже мечущиеся мысли. И потому, ошеломленная внезапной бурей в его крови, она инстинктивно сжала пальцами его плечо.
– Да-да, – раздался за спиной голос хозяина дома, респектабельного лондонского дома, откуда Айя в свое время сбежала, как сбегала отовсюду. – Вы обратили внимание на этот потрясающий экземпляр? Я купил его в Иерусалиме, в Старом городе, несколько лет назад. Помнишь, Айя, старика антиквара с ущербной рукой? Меня, знаете ли, привлекло забавное сочетание: на обложке шрифт русский, а внутри – то ли иврит, то ли арамейский. Жаль, что мы с вами никогда не узнаем, что там, в этой книге…
Но Леон уже знал – что там, в этой книге. В книге было последнее доказательство, за которым он пустился в путь, начав его с острова Джум в Андаманском море. Последнее доказательство, неотвратимо связанное с любимой рукой, что испуганно вцепилась в его плечо своими чуткими пальцами…
Нет, никто и никогда не мог бы купить эту книгу, пока жив был Адиль.
Книга исчезла в тот день, когда его убили. И по тому, как грамотно была сломана у старика шея, как тщательно выбрано время – послеобеденного затишья в лавке, – Леон понял: Адиля убрали. Убрали те, кто проследил за Куньей и Рахманом.
Хотя безутешная Самира, старенькая жена Адиля, считала его смерть несчастным случаем: в конце концов, человек, имеющий только одну настоящую руку, вполне мог оступиться на лестнице и упасть, хоть и знал эту лестницу как пять пальцев своей больной руки. Самира давно уговаривала его либо построить нормальные каменные ступени, либо вообще заколотить дверь в этот проклятый подвал. «Так и лежал там, – плача повторяла она, – подвернув под себя свою бедную детскую ручку…»
Леон обнял несчастную старуху левой рукой (на правом боку под рясой она могла почувствовать старину «глока») – кроткая душа, монах-францисканец, отец Леон…
В этом обличье он раза три бывал у них дома, и Самира знала его только как отца Леона, сицилийца, знатока-нумизмата из монастыря Сан-Сальваторе.
* * *Рахмана и Кунью, двух своих самых ценных агентов, он потерял через несколько дней после смерти Адиля.
Этим двум братьям не было цены: с их наводки были перехвачены несколько смертников с поясами, начиненными взрывчаткой, расстреляна колонна грузовиков с оружием для ХАМАСа, один за другим уничтожены лидеры трех группировок, запускавших ракеты по югу страны.
Погибли братья страшной смертью, как это водится в здешних краях. Их выкрали, вывезли в Газу и там убили.
В минутном видеоролике, выложенном на всех новостных сайтах в Интернете, демонстрировалось, как их волокут по улицам – уже мертвых, но еще пригодных для надругательств. И вместо лиц у них было кровяное месиво, не было лиц, так что Леон, вновь и вновь запуская ролик и влипнув в монитор, не мог различить, кто из них Кунья, а кто Рахман.
Вновь и вновь заставлял себя смотреть, как волокут на веревке их тела, как безвольными макаронинами тащатся по земле голые ноги – Куньи? или Рахмана? – с обоих стянули джинсы; как озверелая толпа смыкается над мертвым телом, топча его, возбужденно и яростно возясь над ним, выкрикивая проклятья.
Он и сам сидел и выкрикивал арабские проклятья, и плакал. Он был бледен, пожираем ненавистью; он был брат убитых и желал только одного: убивать, убивать, убивать!
* * *– Он нужен мне целеньким, – почему-то полушепотом сказал Леон Рону Вайсу.
Капитан Вайс командовал операцией по задержанию Исмаила Раджаба, на счету которого было много чего, в том числе убийство двух солдат-резервистов, заблудившихся на своем «жучке» в Шхеме. Их просто разорвали на части, буквально, физически разорвали, и Леон вертелся ужом и не спал несколько суток, перетряхивая всех своих агентов. Трижды сам, переодетый, наведался в кое-какие лавки, забегаловки, гаражи и парикмахерские Шхема. Дважды (дородная пожилая тетушка в темно-серой абайе) покупал баранину в мясной лавке, принадлежащей дяде Раджаба: придирчиво перебирал куски мяса, постреливая по сторонам глазами из-под платка. Долго сидел – старый, слепой, полубезумный – в кофейне возле дома, где, по данным «прослушки», иногда ночевал шурин Раджаба, его самое доверенное лицо; сидел, перебирая четки, ошалевая от кофе и наргиле, бормоча рваным голосом перепутанные суры Корана… Пока наконец не собрал все сведения в нужный букет.
Операция, как обычно, была размечена по этапам, руководил ею опытный боевой офицер. Можно было не волноваться, но на сей раз Леон просто сходил с ума.
– Ты понял, Вайс? Он должен быть у меня в руках целым, испуганным и непорочным, как невеста. Я, – и голосом подчеркнул это «я», – буду его женихом. «Гряди же, мой суженый!» Я раздену его сам, волосок за волоском, мышца за мышцей, ноготь за ногтем…
– Кенарь, – проговорил Вайс, медлительный, как удав, и глянул исподлобья: – Иди, проветрись. Мне не нравится твое настроение. Мы просто солдаты. Мы делаем свое дело, ясно? А ты потом сделаешь свое. И не танцуй тут вокруг нас, уйди. Мои ребята должны быть собранны и спокойны.