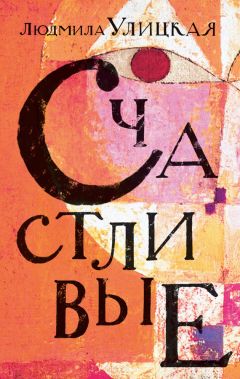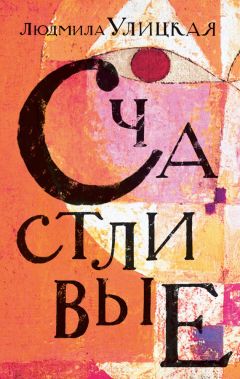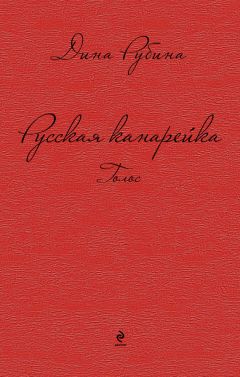Дина Рубина - Русская канарейка. Голос
Пастух Амос добавил, помешивая ложечкой сахар в кофе:
– И мандавошки свои имеются.
– А у нас с Магдой внучки-близнятки, ты слышал? – говорил Натан. – Мы в них втюрились по уши, как дураки. Такие забавные, рыженькие – в Меира, и синхронные, как два стэписта. Их Габриэла по-разному одевает, чтобы различать. А ты куда собрался? – И сразу спохватился: – А-а… понял-понял: летаешь помаленьку. Ну, как же я рад тебя видеть, парень! Скажу Магде – она сомлеет от счастья.
– Передай ей привет, – проговорил Леон, неожиданно и сам растроганный встречей. Столь же неожиданно для самого себя добавил: – Передай, что… очень по ней скучаю, – и в ту же минуту подумал: а правда, как же я соскучился по Магде!
– А где служил, парень? – спросил вдруг этот неприметный, со взглядом варана, замершего на камне в ожидании добычи. У него оказался неожиданно певучий, драматически сильный голос.
Леон ответил. И тот вдруг перешел на арабский:
– Кан сабан? Хал ирхакук шабабна?[21]
Голос подходит языку, подумал Леон, прямо муэдзин на минарете. Помедлив, по-арабски же ответил:
– Наам, лакина ирхакнахум актар[22].
Натан горячо сказал:
– Гедалья, ручаюсь тебе: какой язык в него вложишь, на том он через неделю и запоет.
– Постой, – вдруг произнес Амос, до этого молча и как-то незаинтересованно допивавший свой кофе. – Запоет… А я ведь уже видел тебя, парнишка, а? У Иммануэля. – И повернувшись к тому, кого Натан называл Гедальей, тихо проговорил: – В жизни бы не подумал, что он так изменится. Маленький был, кудрявый, глазастый. И пел.
– Пел? – подняв белесые, будто молью проеденные брови, переспросил Гедалья.
– Я даже на папке тогда написал: «Кенар руси».
– Почему «руси»? – еще больше удивился тот, разглядывая Леона, смущенного, что его ощупывают, как коня на ярмарке, – спасибо, в зубы не смотрят. Взглянув на часы, Леон вскочил, заторопился. Самолет без него уж точно не улетит, но надо и совесть иметь.
– Телефон запомнишь, Кенарь? – спросил вдруг Гедалья. Быстро произнес семь цифр и, не повторяя, властно по-арабски добавил:
– Во вторник позвони. Есть что тебе предложить.
6Когда он размышлял о тех годах своей жизни, что начались после специализированного курса на одной из секретных баз – курса, включавшего многие странные дисциплины (не говоря уже об углубленном арабском, все пять групп диалектов), ему казалось, что артистическая биография его тогда и забрезжила; тогда, а не гораздо позже, после окончания консерватории, когда он подписал договор с Филиппом Гишаром и получил свой первый ангажемент. Разве что случайные зрители и партнеры по постановкам, даже и подыгрывая, не знали его настоящего имени и не считали нужным рукоплескать.
Разве что игра его проходила вдали от света рамп; разве что грим он накладывал с особой тщательностью, ибо небрежность гримера могла обернуться выпущенными кишками; разве что гораздо вдумчивей подбирал для роли костюм. Да и не грим и не костюм это были, а он сам; сам он, Леон, но – другой, с целой гирляндой других имен, с четками в руках, с куфией на голове, напевающий под нос мелодии арабских песен.
Бывало, на два-три месяца он становился тем другим, кто истово постится в Рамадан, молясь среди таких же, как он, мужчин, привычно повторяя: «Аллаху акбар-субхана раббийаль-азим, Сами, а-Ллаху лиман хамидах, раббана ва лакаль-хамду…»; тем, кто за весь день может съесть одну питу с хумусом, и то лишь вечером; кто каждое мгновение настороже, ибо сюда явился из Иордании, проник через мост Алленби и идет к дальним родственникам в Рамаллу. К дальним родственникам, никогда его не видавшим…
* * *Однажды у него случилось нечто вроде нервного срыва.
Третий месяц он работал на стройке в Иерусалиме, где бок о бок с ним простыми рабочими трудились два связных «Исламского джихада», готовившего к еврейским праздникам серию взрывов в центре города. Звали его в тот период Джавад Абу Зухайр, жил он в Восточном Иерусалиме, в большой хаму́лке[23], в разветвленной и многодетной семье Бургиба.
В один прекрасный день он явился к ним из Аммана – отпрыск огромного клана Зухайр, с запиской от своего двоюродного деда, Нури Абу Зухайра, с дивно вырезанными старинными нефритовыми четками в подарок главе рода Бургиба. И обосновался в комнатке с младшим сыном, пятнадцатилетним Саидом, бесхитростным улыбчивым дауном, который стал ему настоящим братом, и даже много лет спустя, вспоминая о нем, Леон ужасно скучал по его безгрешной улыбке, по его внезапным слезам, посвященным вздору, выдумке: «Это правда было? Ты видел сам?» По вечерам Леон рассказывал ему «истории из жизни» – в основном оперные либретто, приспособленные под здешний антураж: «Аиду», «Чио-Чио-Сан», «Отелло»… Мальчик спрашивал:
– Ты никогда-никогда не уйдешь? Ты останешься со мной навсегда?
(Ну что ж, говорил в таких случаях инструктор Лео на, в нашей работе случаются травмы самого разного рода…)
Так вот, о травмах.
Ежедневно добираясь из Азарии на стройку сначала пешком, а затем автобусом, он случайно познакомился с девушкой Надей, репатрианткой из Тюмени.
Несколько дней подряд, оказываясь в одном автобусе, просто смотрел на нее, а она – на него. И вдруг она сама заговорила. Все это было совершенно лишним, но девчонка так обаятельно постреливала голубыми глазами, стеснительно ему улыбаясь… И робко, осторожно он ответил ей на очень плохом иврите. Забавно, что, пребывая в шкуре Абу Зухайра, он думал на арабском, и когда приходилось говорить на иврите, с трудом подбирал слова. (Русский же на эти три месяца просто перестал знать. Проходя мимо двух беседующих по-русски репатриантов, слов не понимал.)
Дня через три они с Надей уговорились встретиться в центре Иерусалима. Довольно нервная и никчемная вышла прогулка, оба – по разным причинам – то и дело оглядывались по сторонам.
Но в тот же вечер, в поставленном на ремонт молодежном пабе в «Иерусалимских дворах», на потертом плюшевом диване, заваленном всяким барахлом, у них случился мгновенный бешеный роман – со слезами, объятиями и, наконец, с расставанием, потому что она «не могла продолжать с… ну, ты сам понимаешь, Джавад… меня никто не поймет – ни родители, ни брат, ни друзья. Мне же в армию скоро… я же… Я всегда буду помнить тебя, Джавад!» И так далее.
И у него в глазах дрожали слезы (арабы легко плачут), и если эти слезы наворачивались при весьма незначительном усилии, то что сказать о сердце, которое сжималось и ныло уже совсем не по заказу? Почему? Потому что она «не могла продолжать с… ну, ты сам понимаешь, Джавад, – кто ты?..»
Впрочем, еще раза три они встретились.
У нее была мягкая славянская внешность, чудесные загорелые ноги бегуньи в уже не модных «римских» сандалиях с такими длинными и замысловатыми ремешками, оплетавшими длинные икры, что она ни разу их не сняла (морока потом распутывать); короткая синяя юбочка, похожая на форменные юбки его одесских соучениц, и смешная майка на одной бретельке. Одежда по минимуму, да и тело по минимуму: птичка, худышка, нежные подростковые лопатки. Но при угловатой сдержанности она быстро достигала своей тайной жгучей радости, которую боялась обнаружить и потому больно прижималась губами к его губам, гася низкий стон. И – вскакивала, торопливо оправляя юбку, целовала его и виноватой походкой (длинные, тесно оплетенные древнеримские ноги) выскальзывала под строительными лесами на улицу. А он оставался: взбешенный, взвинченный, разочарованный и неудовлетворенный. Долго добирался пешком в Азарию, в комнатку к своему милому дауну Саиду. И потом полночи не мог уснуть, пялясь в окно на перемещение звездных облачков вокруг бычьего пузыря луны, в ожидании рассветного грозного зова муэдзина.
Незадачливый арабский парень, которому нет места в их мире.
* * *Он потерял счет этим опасным спектаклям, зато и много лет спустя помнил клички своих агентов, тайники и места встреч.
За несколько лет он успел поработать и в следственном отделе, и в арабском, и в отделе контршпионажа. Занимался ликвидацией нескольких главарей ХАМАСа и «Хизбаллы», и вряд ли кто из журналистов – будь то западные, арабские или даже израильские СМИ – мог предположить, что пресловутый «черный мотоциклист» – бич божий, мелькавший до выстрела или взрыва то в Алеппо, то в Хан-Юнисе, то в районе Баб аль-Табанэ в Триполи и затем бесследно растворявшийся в воздухе, – это один и тот же человек, способный перевоплотиться в подростка, одного из тех оборванцев, что торгуют на перекрестках упаковками цветных фломастеров, синими баночками крема «Нивея» и прочей расхожей дрянью, производимой в секторе Газа.
Шаули, с которым они теперь виделись от случая к случаю (тот – через брата – попал в другое ведомство), говорил, что Леон «огрубел», стал «слишком подозрительным» и имеет такой вид, будто каждое утро «допрашивает собственную задницу».