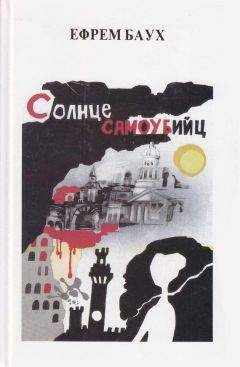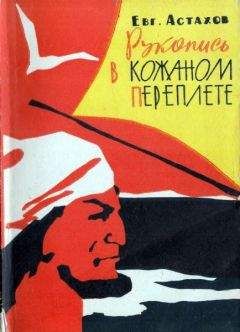Эфраим Баух - Над краем кратера
Окно слезилось дождем. В глазах ее стояли слезы.
– Господи, откуда ты такой взялся? Упекут за решетку, нутром чувствую.
– Не преувеличивай.
* * *С музыкой тяжко. Ожившая в звуках память обжигает, потому что ослабленная течением дней, недель, лет, суетой, книгами, снами, желанием забыть и отдаться свежему потоку впечатлений, бездумно подставив ему лицо, – в музыке она сбрасывает весь этот покров, предстает жалящим языком огня. Огонь всей прожитой жизни бьет в узкую щель часа. Вечный огонь памяти. Увидишь в накрывающей с головой суете вечный огонь – всё мгновенно отлетит, проникаешься простым, как земля, вода, небо, смыслом: где бы ни был, чем бы не занимался, сначала кажется, что можно отвлечься. И в первые звуки Соль-минориой сороковой симфонии Моцарта вовлекать зал филармонии, поскрипывание кресел, покашливание, скрытый свет плафонов. Испытывать успокоение, про себя повторяя знакомую мелодию, и, значит, каждый следующий ее поворот не таит для тебя ничего неожиданного. Даже подпевать про себя. Пытаться закрепить себя на слаженной работе скрипок, мелькании множеств смычков, словно бы извлекающих чистый поток воды, дающих этому потоку быстроту, напор, бег, исчезновение и снова – нарождение. Летит поток, легко, а над ним – порожденная им, как призрачное замершее облако солнца и брызг – сама музыка.
Но боль приходит сразу и целиком. Не успеваешь, не можешь успеть прикрыться, потому что ты уже в ней самой. Даже руки не протянуть к отброшенным островкам покоя, где человек ухитряется казаться себе свободным от прошлого, как младенец, только пришедший в мир. Остается замереть, прикрыв глаза: и стоит рядом отец, протирает платком очки, и горбится, подслеповато щуря глаза. И в ослепительно сухом дне мать лежит на земле, и тело ее беззвучно сотрясается.
И я стою, оглохший от горя озлобленный волчонок, и еще далеко до конца войны. А за краем ее только и начинается одинокая жизнь матери, сухая легкость бабушки, выплакавшей свою жизнь по матери, по пропавшему сыну, по мне, живущему не так, как ей бы хотелось. Мерцают ждущие чего-то от меня глаза Нины, щемит сердце жалкая улыбка Лены в момент, когда Света виснет на моей шее, и всех их уносит под ритм симфонии троллейбус, пустой, светящийся изнутри, как лунатик, выворачивающийся из-за угла, как сустав, и манит гулом небытия снежный колодец. Дорогой ценой оплачена сегодняшняя моя жизнь. И существо, сидящее рядом, случайно вошедшее в мою жизнь, вне сомнения обладающее анормальной чувствительностью, с тревогой бросает искоса взгляды в мою сторону: ощущает идущие от меня флюиды угрызения совести.
Музыка иссякает, уходит в песок, одинаково равнодушно поглощающий въевшийся в печенки дождь заодно с Моцартом. Все движутся к выходу. Она идет впереди. Я за ней, всё медленней, так, чтобы между нами стало больше людей. Она почти теряется за спинами, головами. Надеваю плащ, иду к выходной двери. Ждет меня, молчит. А на улице всё тот же дождь, от которого уже начинает ныть под ложечкой. Медленно идем рядом, заложив руки в карманы плащей. Останавливается. Я продолжаю идти. Со скрипом тормозит рядом такси. Она открывает изнутри дверцу, машет мне рукой. Сажусь рядом, так и не вынув рук из карманов. Едем. Она только и говорит шоферу:
– Налево, еще налево. Тут станьте.
Берет меня за руку, ведет к зданию, явно выделяющемуся новизной на фоне окружающих невысоких старых домов. В большом ярко сияющем вестибюле охранник берет под козырек, глядя на нее с заговорщицким видом. Огромные кадки с растениями вгоняют меня в растерянность своей роскошью. Поднимаемся на лифте. Дверь в квартиру тоже намекает на необычные апартаменты. Комнаты огромны, богато и со вкусом обставлены. Выпадаю в осадок.
– Не пугайся, – говорит она, – только в такой роскоши могло вырасти такое непутевое дитя, как я.
– Кто твои родители? – спрашиваю с робостью, от которой самому становится противно.
– Папа – профессор. Заведует кафедрой в Политехническом. Родители уехали на конец недели. Представляешь, как он давил, чтобы я поступила в его институт. А я, конечно же, назло. Он у меня технарь. Не понимает эмоций. Но тут его проняло: уговорил не противиться хотя бы тому, что устроит меня в аспирантуру. Не пошла бы туда, тебя бы не встретила.
– Ну, не знаю. Из моего небольшого опыта, кажется мне, геология не женское дело, особенно для «Незнакомки». Вероятнее всего, мне повезло, что встретился тоже с профессором… Огневым. Редко кто так быстро попадает в аспирантуру.
– Перестань скромничать. Наслышана. Ты настоящий талант.
– Обещал почитать тебе еще Пушкина. Вот время и место, слушай:
Дар напрасный, дар случайный,
Жизнь, зачем ты мне дана?
Иль зачем судьбою тайной
Ты на казнь осуждена?
Кто меня враждебной властью
Из ничтожества воззвал,
Душу мне наполнил страстью,
Ум сомненьем взволновал?..
Цели нет передо мною:
Сердце пусто, празден ум,
И томит меня тоскою
Однозвучной жизни шум.
– Перестань. Трудно поверить, что это писал Пушкин, солнце нашей поэзии, прости за это умильное клише.
– Но это он – настоящий, без прикрас. Как и Блок хвалил, кажется, кулебяки, приготовленные матерью, а в дневнике в этот день записал, что не мог отрешиться от мысли о самоубийстве.
– Это все «дух неволи». Но можно ли, разрешено ли Богом называть отца и мать «враждебной властью»? Ты ведь тогда на рассвете, когда я к тебе прибежала, говорил о них такие проникновенные слова…
Я вообще не помнил, что говорил. У меня бывают такие вот провалы памяти.
– Это у тебя сердце пусто? – Продолжала она. – Да оно переполнено яростью жизни. От того и не выдерживает такого напора.
И тут меня прорвало. Я торопился всё выложить о снежном колодце, который колом торчал во мне, обо всём, что изводило меня последние годы, о Крыме и Азии. Имена женщин готовы были сорваться с моих губ, но я прикусил их.
В домашнем халатике, сквозь сминающиеся полы которого выглядывали ее удивительной формы ноги, она так не подходила ко всему тому, что я рассказывал. На миг прервал свои излияния и вдруг спросил:
– Родители до сих пор не сватали?
– Еще как.
– И что?
– Ждала тебя.
Я сидел, не шелохнувшись. Мне казалось, что не смогу встать на ноги, что стоит сделать шаг, и обязательно что-нибудь задену, опрокину, зацеплюсь, упаду. Сидя, придвинул стул к столу, на котором она расставляла посуду, рассматривал нежно выписанные на тарелках цветочки, небрежно-легкие, почти улетающие, как будто их летучесть могла мне передаться, потому что напротив, соединив пальцы рук и оперев на них подбородок, она, не отрываясь, смотрела на меня. В глотке пересохло, но я боялся потянуться за стаканом, в который она минуту назад легко плеснула вино. Стакан бы не подался моим пальцам, перевернулся бы, а скатерть, залитая вином, совсем бы меня запутала. И я сидел, не двигаясь, только глазами скользил вдоль изгибов цветов и стеблей в напрасной надежде получить заряд скольжения, оторваться и ощутить легкость.
Что виделось мне в этом ее неотрывном взгляде? Печаль женщины, такой вольной в самой себе в отдельном своем существовании, в той жизни, которая ее молодыми годами, как воды, соединяется за ее спиной. В той жизни, чудной и неповторимой, потому что каждый день, час, миг нарождается от ее светящегося, чудно вылепленного лица, глаз, тела, светлых волос, которые все время как будто отбрасываются назад этими водами уходящей жизни. И так же на протяжении всего прошлого жизнь эта каждый день, час, минуту дышала, существовала, была ее жизнью только в пределах и очертаниях этого лица, глаз, волос, и потому была неповторимой, как неповторимо какое-нибудь озеро в слиянии с горами, особой синевой воздуха, зеленью и облаками, как купели Ай-Андри и Ай-Анастаси, Господи, это же ее имя – Анастаси. Ну, разве в этом не рука судьбы?
Проступала в ней печаль женщины, которая и теперь еще вся с головой в той своей жизни. Но вот же случайно, как ракушка к днищу лодки, или заноза, встрял в ее жизнь неизвестно откуда вынырнувший человек. И отодрать бы его запросто, да уже и ранка будет, и след. И не любишь вроде: да и можно ли ракушку возвысить до единожды в жизни случившегося чуда такого лица, глаз, волос. Но, как ни странно, считаться приходится и с ракушкой. Так надо ее во все глаза выглядеть: может, и не ракушка, «воззванная из ничтожества», если все же так беспокоит.
Так выстроилось в моей голове. Никогда не чувствовал себя таким ничтожным и ненавидел себя за то, что могу увидеть себя до такой степени ничтожным, что душа позволяет так низко думать о себе.
– Мне лучше уйти, – сказал я, приподнимаясь. Она вдруг рассмеялась, как ожила, вскочила, дала мне стакан. Мы выпили на брудершафт, поцеловались. Глаза ее были печальны. Она разломила руками хлеб.
От одного хлеба и вина.
Среди одних стен.
От одного времени.