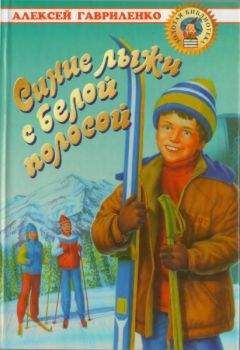Олег Рой - Фамильные ценности, или Возврату не подлежит
– Или дурак, – усмехнулся Аркадий Владимирович.
Солнцев вздохнул:
– Ну… бывает. Но я тебя везде самолучше отрекомендую, в обиде не останешься.
В обиде…
Горько, ох, как горько было видеть, как уходят за границу подлинные раритеты – десятками уходят, сотнями, тысячами. Не только драгоценности – картины, древние книги, антиквариат. Сердце кровью обливалось. Это ж как если бы Царь-пушку продать. Или Покрова Пресвятой Богородицы собор[8], что на Рву, разобрать по камушку и увезти в какой-нибудь Лондон, чтобы там на него люди дивились. Ох, тяжко.
Возвращаясь домой, Привалов бормотал себе под нос:
– Да что же это? Да как же так можно? Да что же будет-то?
Но тверди не тверди, а жизнь не может не продолжаться. Когда Аркадий Владимирович подходил к спрятавшемуся в глубине заросшего двора домишке, уныние уже немного отпускало. Над головой неслись облака, то опалово-прозрачные, то закатно-розовые, как нежный турмалин, то мрачно-сизые, какими бывают сапфиры. Меж булыжников пробивалась упрямая, то бледно-хризолитовая, то сочно-изумрудная трава, где-то взбрехивали собаки. Как будто время повернуло вспять, как будто ничего не было, никаких переворотов, никаких революций, как будто жизнь совсем – совсем! – не изменилась.
В некотором смысле так оно и было.
Вечерами садились пить чай. И пусть скатерть была не кружевная, как когда-то на Остоженке, пусть угощение вокруг дешевенького, помятого под самой «короной» самовара не поражало изобилием, пусть, вместо «императорского» фарфора, бледно-коричневый кипяток, отчетливо отдававший сеном, плескался в толстых дешевых стаканах, стиснутых решеткой тусклых «жестяных» подстаканников. Но самовар пыхтел, заволакивая своим дыханием бедную, почти убогую картину и придавал ей благородную туманность старинного полотна. Но все сидели – как когда-то! – вокруг общего стола, и была в этом какая-то обнадеживающая уверенность: все будет хорошо. Да, мир сошел с ума, все полетело кувырком, вверх дном, не оставив камня на камне ни от рухнувшей в одночасье империи, ни от привычного уклада, перемалывая в пыль, в грязь, в хаос и людей, и традиции, и саму жизнь. Но самовар, пусть и самый дешевый, какой и в дворницкую стыдно было поставить, собирает всех вокруг себя, и чай, пусть и самый скверный, одно название, что чай, другого-то все равно нет, дышит теплом. Каждый вечер! Как раньше. Как всегда было!
Правда, веселой когдатошней болтовни за общим чаепитием уже не случалось. Аркадий Владимирович был все больше мрачен, тяжкие мысли одолевали и посреди семейного тепла, а домашние опасались потревожить его хмурый, но все же покой.
Утешал себя Привалов тем, что «потерянные» произведения искусства – не вовсе потерянные.
Несколько раз к ним с Солнцевым заходил рьяный мужичок, громко оравший, что они слишком долго возятся, что он их под революционный трибунал подведет – за саботаж:
– Что, жалко буржуйские богатства? Ровно червяки дохлые ползаете. Это что? О-опись? – Брезгливо и презрительно он расшвыривал бережно разложенные бумаги. – Вы эдак, по одной штучке, до морковкина заговенья возиться будете. Чего уж проще? Камешки повыдирать, золото переплавить – и на продажу. Золото есть золото, чего тут описывать? Ну… на камешки небось тоже покупатели сыщутся, да только когда еще, а золотишко быстро уйдет. Революции деньги нужны, а вы копаетесь! А это… это что за опиум для народа? – Он выдергивал из «готового» ящика икону семнадцатого века с тончайшего узора золотым чеканным окладом. – Деревяшку – вон, золотишко ободрать и в переплавку. А то развели, понимаешь, контрреволюцию!
Привалов пытался объяснить, что ценность «золотишка» значительно меньше, чем изделия в целом – мужичок и слушать не желал:
– Все это байки старорежимные!
Пару раз Николай пригрозил рьяному гостю сам – наганом. Но вытолкав «командира» за дверь, сидел, пригорюнясь:
– Ох, не было бы беды. Он ведь, Аркадий Владимирович, из тех, кто Зимний брал, Временное правительство арестовывал. В большой силе он. Если что, как знать, кого нарком послушает: его или меня.
В очередной визит горлопана Привалов тишком «уронил» в карман его бушлата только что описанную пару серег. Умелые пальцы ювелира провернули операцию безукоризненно, борец за светлое дело революции, продолжавший орать, ничего не приметил. Солнцев, стоявший чуть обочь, видел, конечно, все – но ничего не сказал. Только зрачки чуть расширились в изумлении да скула дрогнула.
– Ты чего, Аркадий Владимирович, – вскинулся он, когда «контролер» наконец ушел. – Неуж ты думаешь, что он… Да он даже сапог новых себе до сих пор не добыл! Будет таскать, пока, как у меня, на ногах не развалятся. Бушлат, видел, какой выношенный? Честнее его не найти!
– Честный дурак может быть хуже явного вора, – сухо пояснил Привалов. – Таких не переубедишь, они, пока носом не уткнутся сами, не поймут. Подождем немного.
Ждать и вправду пришлось совсем недолго. Ближе к вечеру проверяющий прибежал – весь красный, с выпученными глазами.
– Что это?! – заорал он, неловко вывалив на заскорузлую ладонь знакомые сережки.
Привалов невозмутимо сверился со списком.
– Сережки из гарнитура купчихи Зарядьевой, – проговорил он наконец. – Достояние республики, записанное под номером триста восемьдесят семь. А как оно попало к вам, товарищ?
Незваный гость из красного стал лиловым.
– Да я… Да вас… – Он поперхнулся.
– Так! – Солнцев, включившись в игру, хлопнул по столу рукой так, что столешница заходила ходуном. – Что это происходит?
– Ничего страшного. – Аркадий Владимирович примирительно улыбнулся. – Ящики открытые, зацепиться запросто можно. Случайность. Вы же, – обернулся он к задыхающемуся проверяльщику, – скачете по комнате, как бешеный заяц, хватаетесь за что ни попадя. А тут материальные ценности. Ответственность… Хорошо, что недостача обнаружиться не успела, и нарком не в курсе.
– Но я… – Вся спесь и желание орать неожиданно исчезли.
– Так мы вас и не обвиняем, товарищ. – Привалов заговорщицки покосился на Солнцева. – Только вы бы поаккуратнее в другой раз, ну на всякий случай.
Мужик яростно засопел, словно буйвол перед атакой. На его шее заходили желваки, однако он не сказал ни слова. Бросил пару серег на стол и вышел, хлопнув дверью.
– Ну ты, Аркадий Владимирович, дока, – восхитился Солнцев. – Кажется, проняло!
Все и вправду сложилось лучшим образом.
Борец за дело революции больше их не беспокоил, но все же, все же… Может, и впрямь лучше, что шедевры за границу уходят? Целее будут. Тут их, не ровен час, и впрямь какой-нибудь особо рьяный товарищ может в переплавку пустить. А уж оклады драгоценные со старинных икон ободрать – и вовсе запросто. Такие мысли помогали смириться с тем, что приходилось делать.
Были, впрочем, в этой работе и хорошие стороны. Аркадия Владимировича все больше ценили как специалиста, а постепенно и всерьез зауважали – как «искренне примкнувшего». Даже в первые, самые голодные годы обе семьи были при хорошем пайке, в доме не переводились ни мука, ни картошка, ни вечная «солдатская» ржавая селедка. Не выменянные – сторожко, с оглядкой и вечными опасениями – на очередной царский червонец или часть стремительно убывающих запасов соли, а совершенно легальные. И оклад – а деньги понемногу возвращались в обиход, превращаясь из пустых бумажек в реальную ценность – положили очень и очень приличный. Да еще помогли окончательно оформить на две семьи – Приваловых и Матвеевых – домишко у Серпуховской заставы. И Михаила, уже успевшего дослужиться от учетчика до заместителя начальника какого-то из многочисленных подотделов, в конце концов, удалось перевести под начало к матросу. Стоило Аркадию Владимировичу заикнуться, что Матвеев – не просто «с понятием человек», а мог бы и в их тяжких трудах изрядно помочь, как Солнцев моментально перетащил его к себе.
– Ух, – рассказывал он, крутя коротко стриженной лобастой башкой, – целую баталию выдержал! Не отдают ценного кадра – и весь сказ! Ну я им показал – не отдавать!
С Солнцевым действительно считались. И считались все сильнее и сильнее. Но и становясь понемногу «видным партийным деятелем», как это назовут позже в советских энциклопедиях и учебниках истории, он не порывал связей с Приваловым, готовый всегда, если что, прийти «старому соратнику» на помощь.
Хотя и сам бывало жаловался: