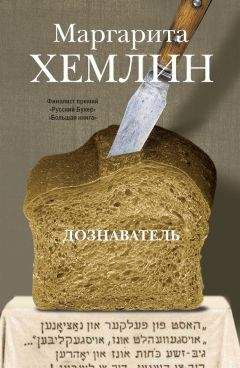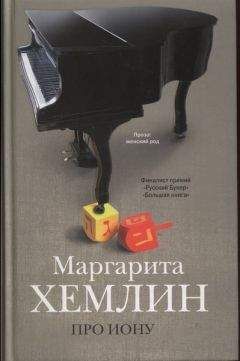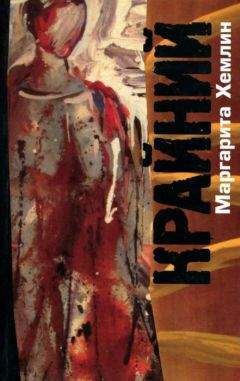Маргарита Хемлин - Про Иону (сборник)
И что мы видим? Основная мысль – одолжение. Одолжение и еще раз одолжение.
А я покупала учебники, по очередям за ними стояла, следила за газетами и телевидением. Писала про все, что касалось будущей специальности.
Да. Мой сын меня услышал через свою акустику. Но его акустика не донесла до него основного материнского желания быть рядом и вместе с ним навсегда.
Но все-таки он меня любит. Я сделала такой вывод перед Блюмой. И какая разница, через что он меня любил: через свое терпение или через мою назойливость.
Да. Всего надо добиваться. И любви тоже. И я добилась.
Блюма в общем согласилась со мной.
– Любит он тебя, Майечка. Сильно любит и обожает.
И всегда любил. И Гиле говорил, что любит тебя. А Гиля, пускай ему хорошо лежится, учил Мишеньку: люби маму, люби маму, пусть она и такая-растакая, а ты люби. Ты сын.
Я улыбнулась.
Блюма отреагировала на мою улыбку по-своему:
– И Гиля тоже всегда с улыбкой. Какую жизнь прошел от корки до корки – а всегда с улыбкой. Весь Остер к нему за советом ходил. Одна ты, Майечка, не попросила совета. А он бы тебе сказал, как надо, а как не надо.
– Блюма, у живых не спрашивают. Тем более у родственников. Сама понимаешь. Ты у Гили много спрашивала?
– Много. Его в школу звали выступать. И в техникум строительный. Он ходил. И там спрашивали. А он говорить любил. И умел. Пусть ему хорошо лежится. И вслух читал Мишеньке, когда Мишенька еще маленький был. Миша подрос, сам хотел читать. Гиля противился: «Слушай с голоса, быстрей дойдет».
– И что читал? – Мне не было интересно, но разговор надо поддерживать.
– Например, чаще всего «Повесть о настоящем человеке». Без ног летчик. Настоящий. Наизусть знал. Редко в страницы заглядывал. Шпарил по памяти. Не полностью, но в основном. Мнение в Остре единое до сих пор: Гиля был настоящий человек. И я лично подтверждаю. Только с ногами.
Вечером с почты я позвонила Марику. Мне не хотелось ехать в Москву. Я спросила, как он справляется с Эллой, как питаются. Я наготовила с запасом, но Элле мало любого количества и качества. Марик заверил, что дела нормальные, Элла рисует, учит уроки. Разговаривает спокойно. Я внезапно сказала, что приеду через несколько дней, так как в Остре возникли обстоятельства. Марик не перечил. Надо – значит надо. Справится сам.
Ко мне сама собой явилась мысль задержаться на пару дней в Киеве. Встретиться с некоторыми людьми. В том числе с родственниками. Мысль не оформилась окончательно в цель, но я не могла сидеть на месте.
Конец мая. Темнело поздно. Я потребовала у Блюмы за все хорошее новый адрес Мирослава. Я была уверена, что ей известно, где он и что.
Блюма не отнекивалась, а даже сама дала и телефон.
Стоит с бумажкой в линейку с написанным номером, размахивает листиком перед своим лицом, будто ей мало воздуха.
– Очень хорошо. Все-таки бывший родной человек.
И Мишенька его любит. А жизнь неустроенная после тебя. Один как перст. И Гиля его любил, и Фанечка, пусть им хорошо лежится.
Она так умилительно посмотрела, что меня передернуло.
– Блюма, им-то лежится. И хорошо лежится, не сомневайся. А мне не лежится, не сидится. Ты давай оценки Фиме, кто кого любит-уважает и кто один как перст после кого. Поняла?
Блюма надула губы:
– Ой, Майечка, ты невыносимая. Я ж просто так. Без смысла. Сказала и сказала. Хочешь – езжай к Мирославу. Хочешь – не надо. Не мое дело.
– Твое, Блюмочка. Твое дело. Все твое дело: и Мирослав, и Мишенька, и Фима, и Фаня, и Гиля. Весь Остер твой. Моего тут ничего нету. И никогда не было. Как думаешь, так и говори. Не виляй.
Мое терпение кончилось без начала. Блюма ломала комедию, а я комедию не терплю.
– Ну ладно, Майечка. Я скажу. Ты думаешь, шо я ничего не понимаю. Правильно. У меня ни образования, ничего. Но я понимаю, шо ты решила все узелки поразвязывать одним махом. Нас с Фимой, думаешь, уже развязала. Теперь едешь к Мирославу развязывать веревку. Давай-давай. У тебя узлов – на сто лет. Мне Фаня много чего рассказала про тебя. Такая фамилия – Куценко – тебе знакомая? Мне очень даже знакомая. И лицо его мне знакомое. Шоб ты знала.
Блюма победно плюхнулась на табуретку. Выложила руки на стол. А бумажку из пальцев не выпустила.
Я заметила, что она втянула в дужки часиков новую белую резинку. И узлы надежные. Крепкие. Блюма поймала мой взгляд и выше закатала рукав кофты.
– Что, он сюда приезжал? При Мише?
– Нет. Без Миши. Миша уже в армию пошел. Но у меня язык за зубами. Я – могила.
– И что ты Куценко сказала, могила?
– Ну. Сказала, что Миша в армии.
– Хорошо, Блюмочка. Хорошо. А давно он был?
– Миша только-только ушел. Больше года. Как раз прошлой осенью. В ноябре.
– А как он тебя нашел?
– Нашел и нашел. Не объяснял.
– А Мишенька про Куценко знает?
– Что знает? – Блюма сделала вид, что не понимает.
– Сама знаешь, что знает. Не придуряйся.
– Я ничего про Куценко не знаю. Видела его в лицо.
И тебе прямо говорю. За что видела, за то и говорю. Собралась в Киев – скатертью дорога. Из меня не вытянешь. Я – могила.
И ничего с ней не сделаешь. Умному человеку скажи – поймет и ответит. А она и не ответит, и не поймет.
Но дело не в этом.
Попрощались с Блюмой плохо. Она, видно, жалела, что наговорила лишнего. Но я только укрепилась, что надо ехать к Шуляку.
Снова отправилась на почту. С вещами.
Позвонила.
Мирослав сам взял трубку.
Я подала голос. Он сразу узнал меня. И это через столько лет! Сразу не посчитаешь. Да. Любовь есть любовь.
– Что-то с Мишей? – испугался, конечно.
– Нет. Миша в порядке. Примешь меня на пару дней? Просто как постороннюю. Или у тебя семья? – Вроде я не в курсе.
Телефонистка, когда соединяла, сказала, что Остер вызывает, так что я намекнула откровенно, что нахожусь в двух часах езды от Киева и могу скоро быть на такси. Средства позволяют.
Мирослав ответил коротко и ясно:
– Жду.
А дальше вот что. А дальше то, что Мирослав сильно постарел. А ведь он незначительно старше меня. Сухомятка сказывалась на лицо. Я заметила с сожалением, какой он был красивый, а за десять лет стал совсем пожилой. Мирослав отмахнулся, потому что весь его восторг сосредоточился на мне.
К сожалению, когда собиралась к Блюме, я оделась не наилучшим образом. Поезд есть поезд, и настроение тоже. Но Мирослав на одежду не обращал внимания, а смотрел и смотрел на мое лицо и фигуру:
– Майя, правильно мне мама говорила, что ты ведьма.
Он, конечно, смеялся, но мне стало обидно.
– А ты поверил? И потому завел шашни с медсестричкой. Чтобы она тебя средствами медицины отучила от меня.
Да. Мы оба шутили вслух. Но в душе не шутили. У каждого было свое расстройство по поводу прошлого. Ничего не исправишь. Тем более плюс истекшее время.
Я осмотрела квартиру. Хорошая, светлая. Две смежные комнаты. Неплохо за одну маленькую комнатку в коммуналке. Дела на работе у Мирослава шли все хуже, и теперь он находился на малооплачиваемой работе чуть ли не рядовым мастером. Где – я не вникала, а он не делился.
Почти сразу же перешли на Мишу.
Миша писал Мирославу регулярно. Мирослав принес письма в коробке из-под обуви. Коробка большая – недавно купил хорошие чехословацкие ботинки и переложил бумаги сюда. А то раньше навалом лежали в ящике стола на кухне. Мирослав говорил и радовался, что как раз к моему приезду получилось удобное и вместительное место для Мишенькиных писем.
Первым делом я поинтересовалась, о чем сообщает Миша. Как его настроение.
– Читать писем не буду, он писал не мне, не мне и читать. А у тебя, Мирослав, спрашиваю не отчет, а рассказ по мотивам.
– Настроение хорошее. Боевитое. Ждет отпуска. Обещает приехать.
Шуляк гладил бумажки, вынимал и прятал листочки обратно. Почерк у Миши тут оказался совсем другой. Мелкий, быстрый. В отличие от писем в мой адрес. Печатными буквами. А у Блюмы – тоже отличался. Клонился влево, и знаки вроде жучков, врастопырку. Как будто писал левша. Я только в эту минуту проанализировала. Но писал один человек. Сразу видно, что зачем-то подделывается.
Мирослав продолжал:
– Поступать после службы никуда не собирается.
Хочет оглянуться, отдохнуть. Вот и все.
– Что про меня пишет? Про семью? Сестру? Вспоминает? – Я нарочно прямо и нелицеприятно поставила вопрос.
Но Шуляк не стал в тупик и без заминки ответил:
– Знаешь, ты не обижайся, мы с Мишкой про тебя никогда не говорили. Не то чтобы не обсуждали, боже упаси, а вообще не говорили ни полслова. И мне он про тебя не пишет. Про сестру как-то написал, что интересно, какой она будет. Про Марика, твоего мужа, тоже не пишет. Ну, это понятно.
– А насчет меня вы договорились, что ли? Не вспоминать?
– Какой уговор! Не вспоминаем друг перед другом, и точка. Болячку не трогать. Как моя мама говорила. Она ж перед смертью вдруг встала. Да. Представляешь, встала и пару недель ходила. Кое-как, но ходила. И в туалет, и кушала сидя. За стол садилась и кушала. А потом умерла. Миша тебе рассказывал?