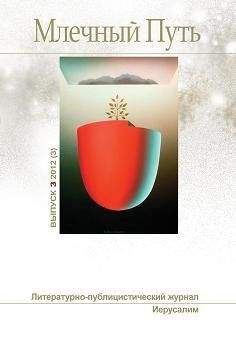Александра Маринина - Обратная сила. Том 1. 1842–1919
– Вы хорошо знали Елизавету Васильевну? – спросил я.
– Я никогда ее не видела. Бабушка не приезжала в Россию, уж не знаю почему. А мы с матушкой не могли позволить себе поездку в Германию, мы и без того жили в полной материальной зависимости от родственников. Если бы бабушка предложила нам денег на поездку, то, возможно, я и уговорила бы матушку поехать в Германию, хотя она и не хотела встречаться со своей матерью. Но бабушка не предложила. И это стало еще одним подтверждением того, что ни моя мать, ни ее брат, ни я ей не нужны и не интересны. Ей интересны были только вы.
Причины, по которым Лизанька не приезжала в Россию, были мне слишком хорошо известны. Каким же я был идиотом! Ведь правда всегда была на виду, в каждом ее письме, а я, слепец, умудрился за столько лет не заметить ее, не понять! Лиза много раз говорила, что приезд в Россию для нее невыносим, ибо невыносима будет сама мысль о том, что я, ее Поль, где-то рядом, совсем недалеко, но она не может меня увидеть. Таков был наш с ней уговор, от которого нам и в голову не пришло отступать. Разве можно было признания, подобные этим, расценивать как обыкновенную дружескую теплоту? Разве можно было не увидеть за этими, написанными на изысканном французском, словами той самой неутихающей одержимости и принять за тлеющие угли то, что на деле являлось бушующим пожаром? Отчего, отчего я был так самонадеян и полагал, что хорошо понимаю мою далекую возлюбленную?
Однако в одном из писем она ставила мне в упрек, что я не дал ей знать, когда посетил Карлсбад. Вероятно, дело в том, что я был там всего несколько дней, и такое испытание казалось Лизаньке вполне посильным. Если бы она приехала в Москву, то уж надолго, на много месяцев, а это совсем иное… Впрочем, разве можно рассуждать о том, что думал и предполагал другой человек? Ах, какая самонадеянность – считать, что знаешь кого-то достаточно хорошо, чтобы понимать все его мотивы и побуждения…
Мое чувство к Лизе было тихим, спокойным и печальным, оно уютно расположилось в моей душе, свило в ней гнездо и жило, нимало не мешая ни моим научным и преподавательским занятиям, ни моим отношениям с другими женщинами. Это чувство согревало меня и поддерживало, но ни одной минуты не руководило мной и моей жизнью. Я был убежден, что Лиза чувствует то же самое. И вдруг, спустя год после ее смерти, выяснилось, что все было совсем, совсем не так…
И снова встал вопрос, кто же из нас более прав: я, не видевший Лизу более сорока лет, но хотя бы знавший ее до нашей разлуки, или эта девушка с маленькими колючими глазками, узнавшая свою бабушку лишь по рассказам матери и по моим письмам?
Так удивительно было думать о Лизе-бабушке… Для меня она навсегда осталась той прелестной пухленькой девушкой, которая была моей невестой. Другой Лизы я не знал.
Или… не хотел знать? Нет ли моей собственной вины в том, что за сдержанными, но полными доброжелательности и нежности строками ее писем я не разглядел другую Лизу?
Очередной порыв ветра заставил тонкую пелерину взлететь над худенькими плечиками девушки, и я вдруг понял, что она отчаянно замерзла.
– Предчувствую, что разговор у нас будет долгим, – сказал я. – Вы позволите угостить вас пирожными? Признаться, я ужасно озяб, а в мои годы простуда может оказаться роковой. Здесь неподалеку есть очень милая кофейня, где пекут вкусные пирожные.
Почему-то, глядя на ее насупленные брови и в целом весьма воинственный вид, я был уверен, что она начнет отказываться и мне придется долго уговаривать ее. Но, к моему удивлению, Софья сразу согласилась. Сей незначительный факт оказался в то же время очень важным для меня самого: я лишний раз убедился, как мало мы понимаем людей и как неумело пытаемся объяснять и предсказывать их поступки, исходя из собственных поверхностных и к тому же недолговременных наблюдений.
Разговор наш и вправду оказался долгим. Из него я узнал, что мать Софьи, лишенная материнского тепла и остро страдавшая от чувства собственной ненужности, выскочила замуж за первого встречного, лишь бы обрести объект, который можно будет любить и получать от него ответную любовь. Муж, штабс-капитан Белецкий, оказался негодным объектом, пьяницей и гулякой, быстро промотавшим все средства жены и оставившим ее с маленькой Софьей на руках. И тогда всю имевшуюся в ее сердце любовь несчастная женщина обрушила на дочь. Она буквально душила Сонечку этой своей любовью, опекая ее в каждой мелочи, постоянно давая советы и требуя во всем отчета. Привело это к тому, что Софья, с трудом разыскав кутившего на деньги очередной любовницы отца, выпросила у него письменное разрешение на отдельное проживание и в 17 лет ушла от матери. Сейчас Софье было двадцать, она зарабатывала уроками немецкого и шитьем, снимала угол вместе с несколькими другими девушками и предпринимала отчаянные попытки получить хоть какое-то приличное образование.
Жили они трудно и более чем скромно, их поддерживал только брат матери, Андреас фон Гольбах, но его доходов хватало лишь на то, чтобы не умереть с голоду. Остальная родня по линии Шуваловых отговаривалась бедственным положением в связи с реформами. Дочь Лизы и крошку Софью приняли в качестве приживалок в дом дальних родственников, так что о крыше над головой и о куске хлеба можно было не беспокоиться, а на большее – не рассчитывать.
– Мать долго не могла найти работу, потому что плохо говорила по-русски, и ей пришлось учиться, – рассказывала Софья. – Если бы бабушка обращала на нее больше внимания и выучила русскому языку, все могло бы повернуться иначе. Но мама росла в Германии, в среде людей, говорящих по-немецки. Она говорила и по-французски, но учить ее русскому никому и в голову не пришло. Дяде Андреасу было проще, он способен к языкам, а моей матери этого дара от природы не дано, и пока она выучила русский настолько, что могла бы хоть чему-то научиться и работать, прошли годы. Ее никуда не брали, она не могла найти место. Мама была очень нездорова, и это было видно сразу, при первом же взгляде на нее – а кому нужны болезненные работники?
С Елизаветой Васильевной ни ее дочь, ни внучка отношений почти не поддерживали, ограничиваясь чрезвычайно редкими, посылаемыми примерно один раз в год письмами, в которых не было никаких подробностей о себе и никаких вопросов к адресату. Переписка Лизы с сыном, Андреасом, была несколько более частой, но такой же пустой, дежурной.
Когда пришло известие о смерти Елизаветы Васильевны, Софья с матерью и дядей немедленно отправились в Германию. На другой день после похорон принялись разбирать бумаги: Андреас собирался, если окажется нужным, остаться и привести дела в порядок. Вот тогда-то и обнаружились сложенные в стопки и аккуратно перевязанные лентами письма, скопившиеся за сорок с лишним лет. Разумеется, все они были прочитаны, от первой до последней страницы.
– Вы, конечно, сейчас станете говорить, что читать чужую личную переписку неприлично, – холодно говорила Софья. – Но не вам, Павел Николаевич, рассуждать о приличиях. Вы и только вы послужили причиной того, что у моей матери было несчастное детство, проведенное без любви и нежности. Вы – причина того, что бабушка лишила своих детей материнского тепла, заботы и внимания. И это означает, что именно в вас содержится причина того, как сложилась судьба моей матери, а впоследствии и моя. Я ведь еще не сказала вам самого главного: моя мать умерла. Ровно на сороковой день после кончины бабушки Елизаветы Васильевны. Она умирала медленно и мучительно, страдая от страшных болей. И самым тяжелым для меня было услышать ее последние слова перед тем, как она впала в забытье, из которого уже не очнулась. Она сказала: «Я всегда думала, что причина во мне самой. Я думала, что Господь наказывает меня за какой-то мой порок, за то, что я недостаточно хороша. Я нехороша, я дурной человек, и поэтому я никому не нужна, меня не любит ни Господь, ни собственная мать, ни муж. И я научилась жить с этим. Как же больно мне было узнать, что причина вовсе не во мне и что все это только потому, что мама не смогла выйти замуж за какого-то Поля Гнедича… Причина моих страданий – в нем. Какое право он имел так распорядиться моей судьбой?»
В горле у меня стоял ком. Я ничего не понимал. Неужели то, что рассказывает эта девочка со злыми светлыми глазами, правда? Неужели это все – о моей Лизе, о той, которую я всю жизнь любил? Неужели это та самая Лиза, которая для меня всегда была связана с понятиями ума, бесконечного понимания и душевного тепла? Нет, нет, этого просто не может быть!
– Вот теперь, Павел Николаевич, я подхожу к тому вопросу, который и заставил меня искать встречи с вами.
Отчего-то только в эту секунду я вдруг увидел и услышал ясно и объемно все, что происходило вокруг: круглые столики, дамы в бархатных или шерстяных жакетах и в затейливых элегантных шляпках, мужчины, читающие в одиночестве газеты или увлеченно беседующие со своими спутницами, хозяин заведения, лично подносящий заказ наиболее именитым гостям, запах кофе, ванили и корицы, оплывший от тепла крем на наших так и не тронутых пирожных. Оказалось, что до этого я ничего не видел и не замечал, полностью поглощенный рассказом Софьи Белецкой. И вот теперь, когда беседа наша достигла кульминационной точки, все органы чувств словно напряглись и встали наготове в преддверии неведомой опасности. Зрение, слух и обоняние обострились настолько, что мне казалось, будто я слышу, как в печи пропекается тесто.