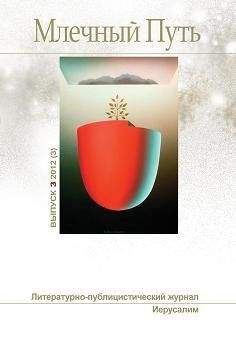Александра Маринина - Обратная сила. Том 1. 1842–1919
Глава 3
Из дневника Павла Гнедича, 1887 год
Дневник Кюхельбекера меня отрезвил. Я никогда не мог до конца понять, для чего люди пишут дневники. Нет, неточно я выразился…
Есть «Дневник писателя», который пишется Достоевским и регулярно публикуется, но эти записки предназначены именно для того, чтобы поговорить о животрепещущем, о происходящем ежедневно и чтобы показать, как это ежедневное выглядит в глазах такого писателя, как Ф.М. В таком дневнике нет ничего действительно интимного, домашнего, глубоко личного, в нем нет воспоминаний и неупорядоченного течения мысли, ибо он является, по сути, литературным произведением и создается специально с целью сделаться публичным.
Есть дневники, которые пишутся с расчетом на посмертное, а иногда и прижизненное опубликование. Многие деятели, почитая себя значительными для Отечества, его политики или культуры, полагают, что их дневники будут представлять интерес и для современников, и для потомков, но в таких дневниках мало искренности и много лжи, хотя порой и невольной. Авторы желают выставить себя в наиболее выгодном свете и приписывают себе определенные побуждения и резоны, которых в период описываемых событий еще не было и быть не могло. Такие дневники обычно пишутся задним числом, и события в них изрядно перевираются. Но цель подобных писаний хотя бы можно понять.
И есть дневники настоящие, которые пишутся в твердом убеждении, что никогда и никем, кроме своего автора, не будут прочитаны. Таким дневникам поверяется все самое глубинное, сокровенное, порой постыдное, и делается это честно, со всей искренностью. Как могло случиться, что такие дневники тоже бывают опубликованными? Для меня это было и остается загадкой.
Именно таков мой дневник. Я вел его с ранней юности, но записи делал не часто: брал в руки перо только тогда, когда не было сил терпеть, когда чувствовал необходимость выговориться, чтобы успокоиться еще на много месяцев. Смерть Григория словно отрезала меня от остального мира. В дело были посвящены всего несколько человек, но говорить о нем я мог бы разве лишь с матушкой, а после ее кончины не осталось никого. Умер частный пристав Сунцов, давно умерли верный Прохор и городовой Васюков, и родственник его тоже недавно скончался. Да даже если б они еще были живы, в собеседники мне эти люди никак не годились, ибо просто не поняли бы меня. Остался только сын Прохора, Афанасий, но не с ним же говорить…
Сегодня я делаю запись в этом своем дневнике в последний раз. Возможно, через какое-то время я снова начну писать, если молчать долее окажется невозможным, однако отныне каждая написанная страница будет уничтожаться сразу же после постановки последней точки.
Почему сегодня? Потому что сегодняшний… Нет, теперь уже вчерашний день многому меня научил. Уже глубокая ночь, наступили новые сутки, и о том, что произошло, мне следует говорить «вчера».
Вчера исполнился ровно год со дня смерти Лизаньки Шуваловой, баронессы фон Гольбах. Похоронена она в Германии, где и жила, рядом со своим мужем, сходить к ней на могилу в годовщину я не мог, поэтому отправился в парк, где мы любили с ней гулять. Скамьи, на которой мы обычно сидели, уже давно нет, на этом месте стоит теперь какая-то претенциозная скульптура, и я просто прохаживался по аллее, вспоминая, как счастливы мы были сорок с лишним лет тому назад. Весна в нынешнем году поздняя, и хотя уже начало апреля, все еще очень холодно и сыро, аллею насквозь пронизывали порывы ветра, заставлявшие испуганно и как-то обреченно качаться голые тонкие ветви деревьев, под ногами хлюпала ледяная кашица, и от этого воспоминания о теплой солнечной погоде и прогулках среди густой щедрой листвы становились особенно печальными.
Я так углубился в свои воспоминания, что не заметил, как кто-то подошел ко мне сзади.
– Князь Гнедич? Павел Николаевич? – послышался довольно резкий и даже несколько дерзкий девичий голосок.
Я обернулся. Передо мной стояла девушка довольно странного вида, одетая не то чтобы плохо или бедно, но как-то вызывающе безвкусно: турнюр слишком вздернут, цвет обильно украшенного рюшами платья – не то рыжеватый, не то красноватый – никак не сочетался с цветом украшений, по-видимому, довольно дорогих; да и плюмаж из перьев на ее шляпке смотрелся явно избыточным.
– Чем могу служить? – спросил я.
– Софья Леонардовна Белецкая, – представилась девушка. – Вы удивлены?
Фамилия была мне знакома. Когда-то много лет назад Лиза писала мне, что ее дочь, вернувшись в Россию совсем молоденькой девушкой, вышла замуж за некоего офицера Белецкого, который, впрочем, довольно скоро бросил ее. И, кажется, его звали именно Леонардом. От этого брака родился ребенок, девочка, но имени ее я не помнил.
– Вы – внучка Елизаветы Васильевны фон Гольбах? – догадался я.
– Совершенно верно. Как видите, я правильно рассчитала, чтобы найти вас в уединении и не компрометировать своим приходом к вам домой или в университет.
– Чем же вы можете меня скомпрометировать? – удивился я, с любопытством рассматривая Софью. – Разве вы участвуете в террористических затеях? Готовите покушение на самого Государя Императора?
– Это вас не касается, господин Гнедич, – гордо ответила девушка. – Я искала вас по совершенно другому поводу. Сегодня годовщина смерти бабушки, и я верно предположила, что вам захочется сюда прийти. Вам, вероятно, интересно, откуда я узнала про это место?
Она с вызовом посмотрела на меня. От этого взгляда маленьких, близко поставленных светло-серых глаз у меня возникло ощущение, что передо мной стоит суровый обвинитель, готовящийся провозгласить смертный приговор для меня.
– И откуда же? Вероятно, от самой Елизаветы Васильевны, – предположил я.
Софья кивнула.
– Почти. Из ваших к ней писем.
– Вы их читали? Каким же образом? – воскликнул я, предчувствуя недоброе.
– Бабушка их хранила все эти годы. После ее смерти мы разбирали ее бумаги и нашли вашу переписку. Вы довольно часто вспоминали то место, где мы с вами сейчас стоим, – усмехнулась Софья. – Вспоминали и подробно описывали, так что найти его труда не составило.
Это было правдой. Я действительно часто возвращался в своих воспоминаниях к нашим беззаботным и радостным прогулкам в парке – и с кем же мне было делиться этими воспоминаниями, если не с Лизой? Попытайся я рассказать хоть кому-нибудь еще, неизбежно последовал бы вопрос: если вы были так счастливы и любили друг друга, то почему не состоялось бракосочетание? В моей жизни и без того достаточно лжи – для чего плодить новую?
Но Лиза… Зачем она хранила мои письма? Зачем не сжигала их тотчас после прочтения? Впрочем, ответ был известен. Я ведь тоже хранил ее письма, как и свои дневниковые записи.
– Из этих писем, – продолжала Софья весьма суровым, надо заметить, тоном, – стало понятно, отчего жизнь всей нашей семьи сложилась так нелепо и тяжело. То, что мы в них прочитали, стало страшным ударом для моей матери и ее брата, моего дяди. Но, по крайности, все расставилось по своим местам. Бабушка была одержима вами. Она любила только вас, думала только о вас, только вы, Павел Николаевич, были для нее важны. Ваша переписка была ее единственным смыслом существования. Больше в этой жизни бабушку ничто не интересовало. Именно поэтому она не любила своего мужа, моего деда, и не подпускала к себе. Моя мать всегда горевала оттого, что у нее всего один брат, ей хотелось иметь много братьев и сестер, ей хотелось родственной поддержки, семейной любви, и она не понимала, почему у бабушки так мало детей. Теперь ответ найден. Она родила мою мать и моего дядю из обыкновенного чувства долга, потому что так положено. Она не хотела этих детей и не любила их. Она не обращала на них внимания, они были неприятны ей как дети мужчины, который ей отвратителен. Моя мать и ее брат были лишены материнской любви, ласки и заботы. Бабушка вся отдалась любви к вам. Поэтому, как только стало возможно, мать и дядя вернулись в Россию, где оставались родственники, в надежде хотя бы здесь обрести семью. Вероятно, вам известно, что барон фон Гольбах, мой дед, умер вскоре после рождения сына, а его дети от первого брака отстранились от бабушки и ее детей.
Сказать, что я слушал свою неожиданную собеседницу с изумлением, – ничего не сказать. Да, все эти годы меня согревала мысль о том, что я люблю Лизу и что это чувство взаимно, я верил в то, что Лиза меня любит, но мне никогда не приходило в голову, что для нее наши отношения настолько важны. Софья сказала, что ее бабушка была одержима мной, что в нашей переписке был весь смысл ее жизни… Как это возможно? Почему я ничего не заметил? Письма Лизы были нежными, полными доверия и тоски, но я не замечал в них какого-то чрезвычайного чувства, хотя бы близко подходящего к понятию «одержимость». Да, теперь, задним числом, я признаю, что в письмах этих весьма редко и скупо упоминалось о детях, но не придавал сему факту никакого значения, полагая, что Лизанька щадит мою мужскую гордость, избавляя от длинных описаний малышей, рожденных не от меня. Если верить Софье, ее бабушка мало занималась детьми, но возможно, причина кроется вовсе не в равнодушии к ним и не в отвращении, а в воспитании, которое Лиза получила все-таки в русской дворянской семье, где возиться с детьми вообще не было принято. Так кто же из нас прав, внучка Лизы или я? Я судил о Лизе только лишь по ее письмам, Софья – по рассказам своей матери. И то, и другое не является достаточно надежным источником объективной истины. Хотя, возможно, у девушки есть и свои личные впечатления…