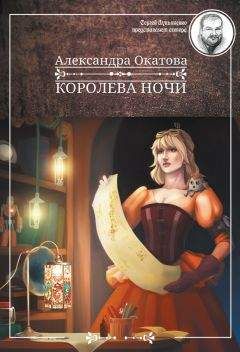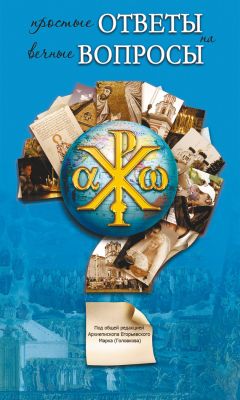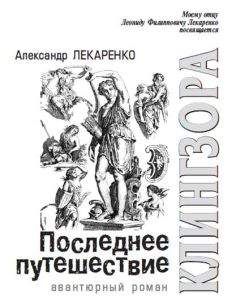Александра Окатова - Дом на границе миров
И это тоже про Варю, ещё Таня пела песню Инны Гофф:
Скоро осень, за окнами август,
От дождя потемнели кусты,
И я знаю, что я тебе нравлюсь,
Как когда-то мне нравился ты.
Отчего же тоска тебя гложет,
Отчего ты так грустен со мной,
Разве в августе сбыться не может,
Что сбывается ранней весной?
Что сбывается ранней весной.
За окошком краснеют рябины,
Дождь в окошко стучит без конца.
Ах, как жаль, что иные обиды
Забывать не умеют сердца!
Не напрасно тоска тебя гложет,
Не напрасно ты грустен со мной.
Видно, в августе сбыться не может,
Что сбывается ранней весной?
Что сбывается ранней весной.
Скоро осень, за окнами август,
От дождя потемнели кусты,
И я знаю, что я тебе нравлюсь,
Как когда-то мне нравился ты.
Когда Варя слышит эту песню, она всегда вспоминает последнюю, третью, с холодными, рано меркнущими вечерами самую грустную лагерную смену, сейчас Варя удивляется, что её жизнь, как по следу ищейка, точно шла по словам этих песен, теперь-то она понимает, что, копнуть любого – и у каждого найдутся в жизни такая любовь, такая обида, которые невозможно забыть или простить, это из другой категории, о прощении здесь речи не идёт, просто с этим надо научиться жить или пустить её на другие вещи: картины, стихи, песни.
Инна Гофф умерла в 1991 году, ей было всего-то шестьдесят с небольшим, конечно, умрёт каждый, «ибо таков конец всякого человека», каждый пройдёт этот путь, даже если очень не хочет и боится, всё равно обязательно пройдёт и перестанет беспокоиться, ведь перестать беспокоиться – это смертельное лекарство, перестать беспокоиться можно только в двух случаях: если сам умрёшь или умрёт тот, о ком ты так беспокоишься, и тогда скорбь придёт на место беспокойства, потом скорбь станет печалью, та в свою очередь грустью, которая как печать ляжет на твоё сердце и будет всегда с тобой, будешь чувствовать постоянную боль, но беспокоиться – беспокоиться ты больше уже не будешь, потому что всё кончилось, а пока не кончилось, начинать плакать можно даже, пока те, кого мы любим, живы, ведь ты-то всё равно знаешь, что все родившиеся умрут и никто не избежит этой участи, что ж ты не плачешь с момента их рождения, «потому что все дни его – скорби, и его труды – беспокойство», и теперь Варя понимала, что в том, что она такая Пенелопа с примесью Медеи, виновата Таня с её песнями, виноват папа, который читал вслух, когда Варя была совсем маленькая и болела, а болела Варя часто, почти всё время, и начальник её мамы на работе, Борис Исаевич, когда мама приходила после Вариной болезни, а Варя должна была опять идти в детский сад, так вот, Борис Исаевич спрашивал в отделе, а в мамином отделе в основном работали евреи, и мама их очень уважала, потому что они всегда тащили своих детей вверх, даже самых плохоньких тянули, учили, нанимали репетиторов, никогда не махали на них рукой, как русские, которые могли своим воспитанием загубить даже очень способных детей, и поэтому у евреев из самых плохоньких выходили стоматологи, ювелиры, дипломаты и музыканты, а у русских даже из очень способных получались пьяницы и уголовники, на работе у мамы в огромной комнате все сотрудники стояли за кульманами и чертили различные детали, которые разрабатывал мамин институт «Гипронефтеспецмонтаж», так вот, Борис Исаевич спрашивал: у кого найдётся работа для Шуры на пару дней, потому что все знали, что больше двух дней подряд Варя в детский сад не ходила, а Варину маму в отделе любили, потому что она никогда ничего не выгадывала, а наоборот, скорее отдала бы последнее, она частенько всех выручала: так, дома у них вместо старых плотных коричневых штор, которые отделяли в большой комнате спальню, где каждый вечер папа целовал её в кончик носа и Варя слышала: ласковых снов тебе, чижик, звёздных, а перед этим проходил обязательный ритуал, когда высоченный, метр девяносто два, а мама была маленькой, метр пятьдесят пять, ровно до его подмышки, папа просовывал тёмную голову с пышными волнистыми волосами между двух штор, перехватывал их под подбородком рукой и под восторженные крики трёхлетней Вари: папа понизься, – скользил вниз и казалось, что это не папа, а незнакомый высокий человек к вящему восторгу Вари стремительно уменьшается в росте, появились шторы с огромными едко-зелёными цветами, которые купила для себя Лида, но они ей не подошли, но все в отделе знали, что Варина мама, конечно, поможет: купит у Лиды ненужные ей шторы, и мама, как всегда, выручила Лиду, а потом Раю, отдаст ей деньги за комплект серебряных колечек «неделька», сейчас этот комплект, который мама подарила Варе, когда она ещё училась в школе, лежит в полной сохранности в шкатулке, и даже одно из семи колечек, которое по ходу жизни было потеряно, теперь восстановлено Варей, и ей приятно, что мамин подарок в порядке, ещё Варя, которая с детства видела на широком деревянном подоконнике за крупноячеистым хлопчатобумажным, даже язык не поворачивается назвать эту сеть тюлем, дореволюционную, удивительно, как она сохранилась, так называемую студенческую, или библиотечную лампу на тяжёлом основании с грустно опущенным фарфоровым патроном на высокой штанге и безвозвратно утерянным абажуром, лампу, которая сразу, при одном только взгляде на неё погружала Варю в детство, когда за окном сгущается голубой ранний зимний вечер и невесомый снег падает, нет, не падает, а плавает за окном, и тишина такая, что, кажется, слышно, как опускаются на откос подоконника с другой стороны окна крупные хлопья снега из зацепившихся друг за друга снежинок, а окно – как граница двух миров, и Варя чувствует себя в безопасности, иллюзорной, но всё же безопасности, и зажигает эту лампу, и теплый светлый круг ложится на широкий подоконник и ещё надёжнее разделяет холодный зимний вечер и теплый ласковый дом, Варя привела эту лампу в порядок, сделала абажур из восьми стеклянных пластин с цветными витражными картинками из своих любимых сказок, лампа стала совсем волшебной, в ней осталось и даже усилилось ощущение детства, ещё есть гитара, которая подарена Варе мамой, и тоже потому, что мамин молодой сотрудник купил другую, и мама выручила его, купив у него эту, а ещё все в отделе доверяли Вариной маме секреты, так как знали, что она никогда никому ничего не пересказывает, и только дома она могла сказать, что Валентине нужно дать ключи от нашей квартиры, чтобы она встретилась со своим женатым любовником, от которого Валя родила девочку, и когда девочке было лет пять, Валентина гладила бельё, а девочка попросила поесть, матери было некогда кормить её обедом – она гладила, тогда она дала дочери в руку хлеб с маслом и отправила гулять на улицу, канализационный люк у подъезда был плохо закрыт, и крышка лежала на колодце неровно, девочка наступила на крышку, она перевернулась, и девочка упала вниз, её, мёртвую, вытащили на следующий день, а её матери, Валентине, зачем-то сказали, что она была жива там, в канализации, ещё несколько часов, мама рассказала об этом Варе, когда ей было семь, потому что как раз в это время Варя с командой мальчишек исследовала подземные коммуникации совсем рядом с домом, на пустыре, где строить ничего было нельзя, потому что там проходила высоковольтка, а под землёй прокладывали трубы, в которые забирали речку-вонючку: от того места, где трубы выходили на поверхность, можно было пройти по лежащим посередине тоннеля деревянным настилам довольно далеко вдоль ручейка в постепенно тающем свете вплоть до полной темноты, дальше трубы пролегали глубоко, и на поверхность можно было выйти только по временной деревянной лестнице, это было на пустыре, сейчас там приличный сквер, а тогда Варя, которая мечтала стать геологом, весной, когда снег уже дотаивал и вода бежала в полную силу и разделяла камешки по фракциям, бродила вдоль ручьёв в поисках похожего на леденцы отполированного кварца, кусков кремня, отлично подходящего для высекания искр, обломков пёстрого гранита и сахарных, сверкающих блёстками на солнце осколков мрамора и масляно блестящих пластинок слюды, нашла на этом пустыре, раскопав руками теплую землю, гнездо розовых жуков-носорогов, с ещё не потемневшим на солнце хитиновым панцирем, в то время мама Вари собирала коллекцию насекомых, собрано было уже две коробки со стеклянными крышками, где на булавках рядами хранились трупики жуков и бабочек, хотела мама заниматься этим для себя или в порядке выбора будущей профессии биолога делала это для Вари, сказать было трудно, но это была рана, справиться с которой Варе не удалось всю её сознательную жизнь, потому что живучие насекомые, особенно бабочки, проколотые булавкой с беспомощно зафиксированными бумажными лентами крыльями, чтобы не могли трепыхаться и не осыпали бы всю свою разноцветную мелкобриллиантовую пыльцу с крыльев и чтобы умерли и окоченели в красивой позе с расправленными крыльями, ещё несколько дней беспомощно шевелили лапками, страшно и беззвучно страдая, Варя не могла смотреть на муки насекомых и обособлялась от этой коллекции как могла, а у жуков мама, разрезав брюшко, вынимала внутренности, заполняя объем ваткой, иначе коллекционный экземпляр попросту протух бы, и пока готовился экспонат, стоял характерный резкий запах насекомых, немного похожий на запах копчёной рыбы и цветущего боярышника, папа из командировок тоже привозил для коллекции скарабеев, каирских крупных тараканов, похожих на головоломки из палочек богомолов, самок, вероятно, съевших, начиная с головы, своих супругов, бабочку мертвая голова, огромного жука-оленя с мощными рогами, ещё он привозил из командировок сэкономленные с большим трудом на суточных доллары, которые уже здесь нужно было обменять на чеки, по ним в специализированных магазинах «Берёзка» покупались товары иностранного производства, которые были наряднее, моднее, интереснее всего, что было в наших бедных с громадными очередями магазинах, папа привозил насекомых для коллекции не только из командировок, он ловил наших, из средней полосы, сияющих бронзовиков, бархатных, как бы запотевших майских жуков, похожих на драконов огромных ярких, переливающихся металлическим блеском стрекоз, позже коллекция незаметно и тихо погибла оттого, что была в свою очередь частично съедена живучими мелкими музейными жучками или жуками-кожеедами, после чего остатки пиршества были тихо без панихиды перенесены на помойку, а у Вари, которая теперь ненавидела биологов, навсегда остался ужас смерти и вина перед насекомыми, которых она стала бояться с удвоенной силой, Варя не смогла простить маме этой коллекции, и странно, что Варя не пострадала во время своих путешествий на пустыре, а после рассказа о девочке, погибшей в канализации, Варя прекратила походы по трубам, ещё мама рассказывала, но это только когда Варя уже стала совсем взрослой, что, например, Алла такая страстная со своими мужчинами, что радует их оральным сексом, в общем, на работе Шуру, маму Вари, любили, и Лида, и Раиса Павловна, и Валя, и Алла, и Артём, и Борис Исаевич, и Сусанна Николаевна, да все, а старшая сестра Вари иногда смеялась над их мамой: когда сестра уже жила отдельно и звонила маме, то мама елейным голоском говорила в трубку: Сусанна Николааавна, а потом другим, обычным голосом: а, это ты, Ирка, – сестра подтрунивала над мамой, точно так же выпевая: здравствуйте, Сусанна Николааавна, а когда Варя стала работать почти так же, как мама, за чертёжным столом, только сидя, потому что она была не инженером-конструктором, а картографом, в институт Варя попала довольно случайно: вместе с папой они выбирали в день открытых дверей между институтом землеустройства и институтом геодезии и картографии, которые когда-то, лет двести назад, были единым учебным заведением, и выбрали институт геодезии и картографии после того, как высокий старшекурсник сказал мимоходом – малышка, иди к нам, – и Варя, окончив институт, теперь он называется университетом, с красным дипломом по специальности картография, тоже, как мама, чертила восемь часов подряд, и так как Варя сидела стол к столу с нормировщицей и та всё видела, то Варе было ужасно неудобно, что иногда за несколько дней на составительском оригинале у неё появлялось слишком мало новых пунсонов и условных знаков, тогда мама, стойкий оловянный солдатик, железный дровосек, как она сама себя называла, которая всегда была сильной, например, когда она училась в школе перед самой войной, и тогда все поголовно сдавали нормы БГТО и ГТО, и мама на эстафете сама с винтовкой, маленький, худенький отважный боец, на одной яростной воле к победе, ведь для победы нужна только воля к ней, тащила на себе к финишу ещё одну винтовку и свою с русой, толщиной в руку, косой подругу, которая была в полтора раза крупнее мамы, с её мальчишеской белобрысой стрижкой, светлыми глазами и круглым лицом, поэтому, когда она только родилась, Варин дед, мамин отец, Станислав, с тонкими польскими губами и такими же светлыми, как у дочери, глазами, держа её, новорожденную, на руках, гордо сказал: «Моя кровь», – в отличие от черноглазой и черноволосой старшей маминой сестры Ани, в Варину бабушку, Варина мама с такими же скупыми польскими губами, как у своего отца, холера ясна, которая почти никогда не целовала Варю и её сестру, успокаивала Варю: ничего, это пройдёт, у меня тоже так бывает, это нет вдохновения, мне даже стыдно перед сотрудниками и больше, чем тебе, потому что наши доски стоят вертикально и всем-всем видно, что там ничего не появляется, поэтому когда Борис Исаевич спрашивал, нет ли у кого работы для Шуры на пару дней, все понимающе кивали и подыскивали небольшое задание, которое мама Вари могла выполнить, пока Варя не заболевала в очередной раз, болела она истово, в полную силу, самоотверженно, как тогда, в Гагре, у Вари резко поднялась температура – она и сейчас помнит, как ей было жарко и как она от невозможности найти для себя удобную позу, закидывала ноги на ковёр, висевший на стене, у которой стояла тахта, и ещё Варя на всю жизнь запомнила, как она болела скарлатиной, – тогда под рондо Равеля на неё катился огромный тяжёлый шар, самое страшное, что от этого шара нельзя было спастись, и он бесконечно и неотвратимо увеличивался, рос и всё падал и падал на Варю, и она всё падала и падала навзничь, на спину, и сверху накатывался шар, и не было этому конца, она не слышала ничего, кроме этого закольцованного, без выхода, рондо, странно, но музыкой счастья с бегущими играющими тенями от листвы для Вари тоже было рондо – Турецкий марш Моцарта, а тогда в бреду по замкнутому кругу, взбираясь всё выше и выше по спирали, звучало рондо Равеля, а Варя всё ещё была жива, но была на грани, за которой смерть, а неотступное движение шара всё не прекращалось, и Варе хотелось хоть как-нибудь завершить это падение, и когда ей всё-таки полегчало и шар исчез, папа опять читал ей легенды и мифы древней Греции, хотя каждую секунду у постели больной Вари он думал, что сам потерял своего тридцатипятилетнего отца, когда тот заразился от маленького папы именно скарлатиной и от которого остался написанный на бумаге с лиловыми линейками мандат, так и написано – мандат, что Михаилу Копаеву, комиссару, необходимо оказывать всяческое содействие, и наградной кортик в украшенных серебром ножнах, который Варя, когда училась в четвёртом классе, принесла, чтобы похвастаться, в школу, она любила и сейчас любит хвастаться, потому что детство и юность – суета, и когда была совсем маленькая, частенько приводила домой делегации товарищей по играм, и открывшему двери папе приходилось с ходу отвечать на звонкий Варин вопрос: правда, тебя зовут Ленин, тогда все дети знали о Ленине с ясельного возраста, не то, что сейчас, а тогда папа читал часто болеющей Варе мифы Древней Греции, поэтому для Вари Персей был как брат родной, Геракл – как дядя, а она сама, Варя, была странной смесью Пенелопы с Медеей, она слишком много требовала от тех людей, которых любила, не прощала им предательства и почти не давала второго шанса, мстила за предательство в основном своей смертью, то есть смертью в переносном смысле – она переставала общаться с людьми, не оправдавшими её доверие, и ценила больше всего справедливость, но хуже всего пришлось её раку-отшельнику – она совсем освободила его от себя, потому что очень любила, любила – или хотела его глазами, его головой, и его душой полюбить себя, ей было так больно от невозможности соединения с ним на том уровне глубины, который удовлетворил бы её потребность любить, что ей пришлось, чтобы выжить, убить свою пишущую стихи половину, такая гордость и терпение привели к тому, что она годами любила и молчала, грех ожидания – это про Варю, и грех недеяния – тоже, она представляла, как встречается её гордость и гордость её любимого мужчины, и вот её гордость спрашивает другую: ну как ты? – нормально, – говорит гордость её любимого мужчины, а ты? – нормально, ну, тогда до свидания, – говорит её гордость, – пока, – отвечает гордость её любимого, тут Варя понимала, что больше сказать нечего, и их гордости расстаются ни с чем, наверное, так и должны расставаться гордости – гордо, не получив ничего, с пустыми руками, так же, как уходят все, с пустыми руками, так чего же собирать сокровища при жизни или пытаться завоевать весь мир, если всё равно уйдёшь, сжимая пустоту в кулаке и в полнейшем одиночестве, иногда её мучило сомнение: может, её гордость – вовсе не гордость, а что-то ещё, может, обида: убитые надежды и похороненные ожидания, а его гордость возможно, просто зависть к его яркому отцу, с которым невозможно было соревноваться или что-то доказывать, потому что тот молодым погиб на войне, или его гордость – страх потери красоты, похоже, он с кокетливым и жалким беретом на красивой лысеющей голове – это Дориан Грей, только без портрета, а Варя – Пенелопа и Медея в одном лице: папина любовь к мифам Древней Греции очень сильно встроились в Варину голову и сделала её жизнь очень трудной, и так как по жизни она была очень сильно влюблена в этого июльского, седьмого ноль седьмого, рака-отшельника, а он, даже если и хотел, то не мог отдаться Варе, потому что когда он её встретил, был старше на двадцать лет и за это время уже истратил на других женщин весь свой запас любви, он же не знал, что она придет и потребует её отдать, нет, скорее уже подарил своё сердце одной женщине, а когда ты отдаёшь своё сердце, потому что хочешь отдать, то становится не важно, приняли твоё сердце или нет, ведь забрать обратно ты его всё равно уже не можешь, не то, чтобы не хочешь, а просто не можешь, вот так он отдал своё сердце другой женщине и не забрал обратно, Варя в свою очередь отдала ему своё и тоже не могла забрать обратно, а кто-то другой отдал Варе, а она даже не заметила, и её даже не напрягает, что оно где-то дома у неё валяется, пылится, и так по цепочке, а Варя не понимала тогда этого и просила, настаивала, требовала, чтобы он в ответ отдал ей своё, а ему не нравилось, когда требовали и когда просили тоже, и он всю жизнь делал что хотел и ни от кого не зависел, и теперь он платит за эту свободу глубоким одиночеством, но тогда принял, казалось, Варю, но она ошиблась, и поэтому, чтобы выжить, Варе пришлось половину себя убить и много лет мстительно молчать другой, выжившей, не пишущей стихов половиной, но шутки с разумом не проходят бесследно, и после разрыва Варя, собирая вещи для поездки на море, ещё не знает, что через много лет Варина оставшаяся в живых половина, вроде счастливая, вдруг перевернётся, как переворачивается айсберг, и Варя вновь испытает после многих лет жизни без этого человека жесточайший приступ уже казалось бы убитой любви, страсти, тоски, это случится после того, как она уже думала, что, узнай она о его смерти, улыбнулась бы, остальные плакали бы, а таинственная незнакомка, Варя то есть, стояла бы на кладбище и улыбалась, она так думала, и как раз в это время она неожиданно получит от него весточку – картинку прямо на стене дома, что каждый день видит из своего окна, и тогда Варя почувствует себя, как потерявший ногу или руку альпинист, которому приятельница в письме, полном всякой чепухи, типа помнишь нашу прогулку на Машук, когда ты ещё поцеловал меня так робко и так трогательно, и из самых лучших побуждений прислала фотографию, где этот альпинист запечатлён всё ещё с полным комплектом рук и ног, и вот он держит в левой руке это фото и хочет, но не может заставить себя посмотреть на свою правую руку, которая на фото всё ещё в целости и сохранности, а теперь руки нет, и сделать ничего нельзя, только забыть, забыть своё счастливое лицо на этой присланной фотографии, и Варя, которая тоже потеряла свою душу и своё сердце, теперь каждый день будет видеть из окна напоминание об этом, несомненно сделанное из самых лучших побуждений, но такое жестокое, как письмо безрукому альпинисту, да чтоб тебе, пся крев, подумает Варя и напишет своему раку-отшельнику письмо, первое после многих лет молчания, мол, помню, люблю, как делаю сырники, всё время вспоминаю, что ты же их любишь, потому что тебе их мама делала, и слёзы капают прямо в тесто для сырников, дались ей эти сырники, в общем, люблю, как свежее мясо любит соль, мстительная Варя напишет это потому, что она решит – так ему будет больнее всего – пусть и ему будет так же горько, как ей, после того как перевернётся айсберг, а вообще они переворачиваются или нет, говорят, нельзя войти в одну реку дважды, но Варе это удалось, это рондо, где всё повторяется, ведь она все эти годы мысленно с ним разговаривала и прятала свою боль как можно глубже, Варя представляла, что она берёт в руку камень и убивает свою пишущую стихи влюблённую половину, чтобы можно было хоть как-то жить дальше, и казалось, убила, но после появления картинки на стене, которую она будет видеть теперь каждый день, а захочет – так каждую секунду, опять откроются старые раны, и, как кровь, пойдут стихи, и погибшая, как ей казалось, любовь выползет из-под обломков Вариной убитой пишущей стихи половины, вся в синяках, с порезами, с вытекшим глазом и сломанной, прижатой к груди рукой, бледная и худая, но живая любовь, а может, не любовь, и будет мучить Варю с прежней силой, а она – как ребёнок, который играет только по своим правилам, будет мучить его письмами, и ещё потому, что она артистка, и потому, «что горче смерти женщина, потому что она – сеть, и сердце ее – силки, руки ее – оковы» – во всём этом виноваты были песни и мифы: вожатая Таня пела песню Городницкого (1963, «Крузенштерн», Северная Атлантика) об атлантах, которые держат небо на каменных руках, – и сама Варя, как и её мама, была как такой хрупкий и жилистый атлант, точнее кариатида, и держала небо на своих сильных женских руках.