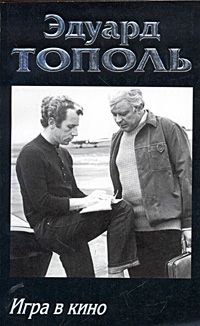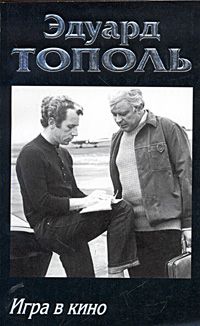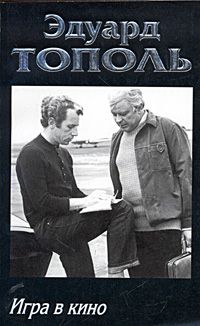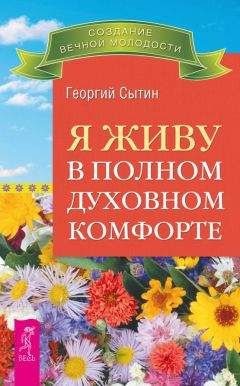Эдуард Тополь - Настоящая любовь, или Жизнь как роман (сборник)
ВЕРГУНОВ (Достоевскому). Не вините нас! Уверяю вас, мы будем совершенно счастливы и именно наш брак послужит началом…
ДОСТОЕВСКИЙ (резко перебивает). Вы говорите: брак? А на какую жизнь ее обрекаете?
ВЕРГУНОВ (с обезоруживающей простотой). Я и сам еще не хорошо знаю… Но была бы решимость, а там все само устроится. Я найму квартиру, к нам будут ходить друзья; и я буду жить своими трудами. Знаете, у меня третьего дня явилась удивительная мысль. Я хочу писать повести и продавать в журналы, так же как прежде и вы. Вы мне поможете; ведь вам все равно запрещено печататься. Как раз вчера я всю ночь обдумывал один роман – так, для пробы, и знаете ли: могла бы выйти премиленькая вещица, а главное, за нее дадут денег… ведь вам же платили!
Достоевский смотрит на него с изумлением и открытой насмешкой.
Мария ставит самовар, раздувая в нем угли мехами.
ВЕРГУНОВ (Достоевскому). Смейтесь, смейтесь! Но вы поможете мне и будете поправлять мой роман. (Глядя на Марию.) Ведь это вы для нее сделаете, вы же любите ее… А если не удастся роман, то я могу давать и уроки. Ах, Маша! Да много ли нужно нам для счастья!
МАРИЯ. А где ты был эти дни?
ВЕРГУНОВ. У ссыльных…
МАРИЯ (в ужасе прикрыв рот рукой). Где?!
Вергунов успокаивающе берет ее за руку.
ВЕРГУНОВ. Там было человек двенадцать студентов, офицеров, художников; они все вас знают, Федор Михайлович, то есть читали ваши сочинения и много ждут от вас в будущем. Так они мне сами сказали. Я говорил им, что знаком с вами заочно, через Марию, и они приняли меня по-братски, с распростертыми объятиями…
МАРИЯ (приходя в себя). Алеша, ты сошел с ума! Ты же мне клялся не ходить туда! Как же ты мог? Посмотри на Федора Михайловича! Ведь он через такие кружки и пострадал. (Ужасаясь.) Боже, неужто и ты?
ВЕРГУНОВ (покровительственно улыбаясь). Перестань, Маша. Сейчас иные времена. И потом – это все молодежь свежая; все они с пламенной любовью ко всему человечеству; и все мы говорили о нашем будущем. Одна девушка сказала, что как только войдет в права наследования родительского состояния, тотчас же пожертвует миллион на общественную пользу.
ДОСТОЕВСКИЙ (с сарказмом). А распорядителями этого миллиона будет вся ваша компания?
ВЕРГУНОВ (с жаром). Неправда! Стыдно так говорить! И вообще, Федор Михайлович, вы же нарочито выставляете меня дурачком перед Машей, потому что сами хотите на ней жениться. Но неужели ей лучше будет с вами, тридцатипятилетним пожилым человеком, у которого уже все позади, уже отличившимся не в хорошем, а в плохом смысле и закрывшим себе все пути? Гляньте на себя: да, десять лет назад вы написали знаменитый роман, но теперь… теперь вы уже идете с ярмарки! А я только иду на ярмарку, мне двадцать четыре года, у меня все впереди…
МАРИЯ. Алеша, что ты говоришь! Как ты можешь?!
ВЕРГУНОВ (Достоевскому). Вы спрашиваете, на какую жизнь я ее обрекаю? А мы, Федор Михайлович, мы разрушим ваше старое общество лжи, бесправия и нелепых церковных идолов и построим общество прогрессивное, общество всеобщего равенства и социальных прав для всех граждан!
ДОСТОЕВСКИЙ (с кривой усмешкой). А вы спросили у этих граждан: хотят ли они? Цели всех предводителей прогрессивной мысли человеколюбивы и величественны. Но дай, Маша, этим учителям (кивок на Вергунова) разрушить старое общество и построить новое – выйдет такой мрак и хаос, что все здание рухнет под проклятиями человечества. (Вергунову.) Нет, мальчик, не нужны русскому народу ваши идеи…
ВЕРГУНОВ. А вы-то откуда знаете? Вы-то по какому праву за русский народ говорите?
Достоевский смотрит ему в глаза – это дуэль двух врагов, разделенных короткой крышкой кухонного стола, на котором стоят самовар и чайные стаканы.
Это дуэль двух поколений, «отцов и детей»…
Это дуэль 35-летнего Достоевского с самим собой, 25-летним членом петербургского кружка социалистов-утопистов…
И это дуэль двух мужчин из-за одной женщины, которая сидит за столом между ними…
И вдруг, стряхнув с ноги сапог и портянку, Достоевский поднимает босую ногу и грохает ее – стертую до кости, со шрамами от кандалов – на стол прямо перед лицом Вергунова.
ДОСТОЕВСКИЙ. Вот мое право! Кандальное!
От удара его ноги стакан с чаем опрокидывается на брюки Вергунова.
Вергунов оскорбленно вскакивает и выбегает из дома, хлопнув дверью.
Мария бежит за ним.
МАРИЯ. Алеша!..
Достоевский, оставшись один, устало клонится со стула.
Когда Мария возвращается в дом, она находит Достоевского спящим на полу.
В досаде Мария перешагивает через него, проходит в комнатку сына.
Там, на кровати, свернувшись клубком, спит Павлик.
Мария укрывает сына одеялом и задумчиво стоит над ним.
Вернувшись на кухню, убирает со стола посуду, изредка глядя на спящего на полу Достоевского. Затем садится перед ним на табурете и, сгорбившись, долго смотрит ему в лицо… Выходит из дома, приносит охапку дров, растапливает печь… Наливает воду из кадки в ведро, стоящее на печи… Приносит из каморки корыто и, громыхнув им, ставит это корыто рядом с Достоевским.
Но Достоевский не просыпается и от этого грохота.
Мария стягивает с него сапоги, портянки, принимается расстегивать латунные пуговицы солдатской куртки.
Достоевский открывает глаза, испуганно смотрит на Марию.
ДОСТОЕВСКИЙ. Я… я сейчас уйду…
МАРИЯ (буднично). Никуда ты не уйдешь… (Снимает с печи ведро, шумно выливает из него горячую воду в корыто.) Вставай, гений, купаться будем.
…Через час, в постели, она котенком лежит на его плече, а он говорит счастливо и воспаленно, с вдохновением.
ДОСТОЕВСКИЙ. Мы обязательно уедем отсюда, обязательно! Ты знаешь девиз Бальзака? «То, что Наполеон завоевал мечом, я завоюю пером!» Но я – я лучше Бальзака! Да, да! Я талантливей! Я сочиню стихи новому императору… да, это хорошая идея – я оду ему сочиню на коронацию! – и добьюсь полной амнистии и позволения печататься! И я напишу… Ох, Маша, я ведь такие характеры видел в каторге, таких историй наслышался – на сто романов хватит! И каких!
МАРИЯ (вкрадчиво). Не нужно про каторгу, Федя. Это не будут читать.
ДОСТОЕВСКИЙ. О нет! Будут! Мое – будут! Ведь меня сравнивали с Толстым! И я еще буду, как Толстой, брать по пятьсот рублей за печатный лист! И мы уедем в Петербург, а потом и дальше, в Европу. Я повезу тебя в Париж, в Ниццу, ты увидишь свою родину…
МАРИЯ (целуя его в грудь, все ниже и ниже). Молчи, Федя, не сглазь…
От прикосновения ее губ он замолкает, напрягается и – наконец! – уже не наспех, уже без конфуза получает свое столь долгожданное и столь тяжело выстраданное счастье…
Мария – хрупкая, тоненькая, экзальтированная – с изумлением обнаруживает в Достоевском еще вполне сильного мужчину, способного заставить ее летать, стонать, задыхаться от наслаждения и целовать его руки[13]…
…На рассвете, устав от любви, Достоевский лежит в кровати со слезами счастья на глазах.
ДОСТОЕВСКИЙ. Господи, Маша, я так счастлив! Я умру, если потеряю тебя… Я просто умру…
МАРИЯ (гладя его по груди). Не плачь… еще не все потеряно…
ДОСТОЕВСКИЙ (поднимаясь на локте, с мольбой и надеждой). Ты обещаешь?
МАРИЯ (поглядев ему в глаза, решительно). Да, мой гений. Ты и я и более никто!..
СЕМИПАЛАТИНСК, КОМНАТА В ИЗБЕ ДОСТОЕВСКОГО. НОЧЬВ полумраке ночи, при огарке свечи, Достоевский энергично ходит по своей закопченной комнате, твердя, словно вдалбливая сам себе в сотый раз.
ДОСТОЕВСКИЙ.
Эпоха новая пред нами,
Надежды сладостной заря…
(Подстегивая себя.) Ну! Ну!..
На столе и на полу валяются смятые и порванные клочки его черновиков.
ДОСТОЕВСКИЙ. Еще раз!
Эпоха новая пред нами,
Надежды сладостной заря…
Вдруг он быстро подходит к столу и записывает, диктуя сам себе.
ДОСТОЕВСКИЙ.
Восходит ярко пред очами…
Благослови, Господь, царя!..
Став в позу, громко, с пафосом читает.
ДОСТОЕВСКИЙ.