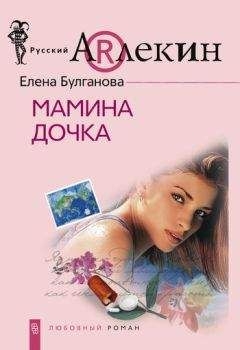Наталия Терентьева - Маримба!
Катька растет и хорошеет. С Тимошей насмешливо здоровается. Почему насмешливо? Пока не знаю. Думаю, ни почему, просто мальчики вызывают интерес, который лучше всего спрятать от самой себя в иронию и насмешку.
Сима хромает, но на дачу ездит. Помогает детям с прополкой, с растущим малышом – у Тимоши за это время появился младший братик, как две капли воды похожий на того маленького Тимошу, с которым когда-то дружила Катька, только смелый и общительный.
– Пливет! – кричит он нам с Катькой через забор, а Тимоша краснеет и отворачивается.
Сад мой так и не преодолел свою природную примитивность, розы растут как чертополох, так же уверенно и независимо, дорожек у нас по-прежнему две – до бани и до рукомойника, а сорняки, если они хорошо пахнут и красиво цветут, принципиально не косятся. И сорняками не считаются. Ромашка, колокольчики, сурепка, зверобой, дикая гвоздичка – разве это сорняки? Это прекрасные луговые цветы, которые можно собирать в букеты и дарить друг другу. Я – Катьке, Катька – мне…
Старые треники правят себе нашим товариществом как и прежде. Шушукаются, ковыляют друг к другу с загадочным видом, с папочками под мышками. Купили компьютер, хороший. Чтобы как положено считать общественные деньги и налоги. Теперь все только через программу Excel! С которой треники, вероятно, и разбираются, собравшись вечерком на участке у кого-нибудь из них, закурив свои вонючие серые папироски и хитровато оглядываясь на гуляющих дачников.
А начальники помойки живут себе и живут. Наверно, любят друг друга, раз живут вместе. Зимой ведь они совсем одни, вдвоем на много километров. Пристроили к дому один сарайчик, другой. Из другого торчит труба – банька, стало быть. Кроликов больше не разводят. Разводят теперь кур. Спозаранку кричит их петух. Очень приятно, по-деревенски. Слышишь сквозь сон, понимаешь – лето, дача, никуда спешить не надо… И спишь дальше.
За верную службу старые треники расщедрились, наняли бригаду молдаван, закупили доски, и те за месяц пристроили огромную теплую веранду к Саниному дому. И широкое, парадное крыльцо. На него поутру выходит Шурочка, подбоченивается и оглядывает свой прекрасный сад, в который она за несколько лет превратила бросовую землю у помойки.
Березы Саня пока больше не рубит. Но каждый раз, приезжая после долгого отсутствия на дачу, я со страхом выглядываю издали свои березы за околицей. На месте? На месте. Стоят, куда им деться. Растут, здоровеют. Такой пока у них возраст. Они еще юные, лет двадцать – двадцать пять. Для берез совсем не срок. Еще кто-то по весне берет у них сок – сок молодой, свежий, сладкий, наверно. Как-то мы увидели на одной из берез несколько сильных, варварских надрезов. Катька сбегала, затерла их варом. Хотели мы даже запрещающую табличку повесить, но не до табличек нам было той осенью – провожали мою маму туда, откуда не прислать ни привета, ни весточки.
Жизнь продолжается. Главное, чтобы в ней были цветы, березы, чтобы каждое утро без устали кричал петух, призывая новый день, чтобы ездила моя старая вездеходная машина, чтобы держался башмак на крыше сарайчика и не давал дождю залить нашу верную косилку, чтобы не падала труба на бане и соседи Толя с Галей не погорели вместе с нашей баней. Чтобы Катька, выбирая себе друзей, до последнего верила в них и видела в них что-то глубоко запрятанное внутри, хорошее, ценное.
– Мам, – неожиданно спросила меня однажды Катька. – А ты не знала, что Саша вот такая?
– Какая?
– Ну… Вот такая. Начальница помойки.
– Нет.
– Ты думала, она – хорошая.
– Да.
– И я так думала. Мышат нам вышивала, домик…
– Да.
– А давай, знаешь, как будто та Шурочка осталась – там? – Катька посмотрела на меня.
Я поняла, что хочет сказать. Там, где была жива моя мама и все обещала приехать на дачу. И сердилась на нас, потому что мы ждали, а она не ехала, боялась споткнуться и упасть на наших лужайках с земляникой и растущими в траве розами. Где Катька была маленькой, худенькой, еще не фигуристой, не красоткой, играла в куклы и в магазин, с хохотом гоняла на велосипеде с Тимошей. Где Сима никак не могла вставить себе зубы – копила деньги по рублику, но зато еще не хромала. Где я была моложе, где я еще ждала по воскресеньям Катькиного папу – вдруг заедет, дровишек нарубить, накормлю его, полюбуюсь им, нездешним, не нашим уже…
Там.
– Там было хорошо, Катюня. Ну и здесь, у нас, сейчас, тоже неплохо, правда?
– Конечно! – с энтузиазмом согласилась Катька. – Я тебе во всем помогаю. Собаку больше не прошу. Ре верхней октавы с легкостью пою. Вот, лауреатом стала… Столько роз во дворе выросло. Как они растут у нас, да, мам? Как петрушка!
– Как укроп, – согласилась я.
– Да. Сейчас лучше, мам. И помойка – новая, красивая, красная. Я вообще даже таких помоек никогда в жизни не видела.
– Если честно, Катюня, я тоже. Ни помоек, ни начальников помоек я таких больше нигде не видела.
– Смеешься?
– Смеюсь. Так гораздо веселее жить.
* * *Поссорили со сторожами нас когда-то березы, а помирил огонь. Наша баня горела, как говорили мои прадедушки – вдругорядь… Мирно топилась печка, приятно пахло березовым дымком и вдруг, ни с того ни с сего загорелась крыша недавно отстроенной после первого пожара парной, да так страшно, быстро занялась вся маленькая банька, заполыхала, густым дымом застилая соседний участок.
– Лю-ю-ю-д-и-и-и!.. – пронзительно закричала подросшая дочка соседей, Толи и Гали. – Люди-и! Сю-ю-да-а-а!..
Сам кряжистый Толя легко и как будто привычно перескочил через наш заборчик, в том месте, где пониже сетка– рабица, с ходу вбежал в дымящуюся баню и стал рубить стены топором. Тут и другие соседи пришли, кто лил воду ведрами, кто пытался дотянуть шланг из колодца, кто помогал Толе ломать баню… Потом стали подтягиваться просто зеваки, стояли, смотрели, завороженные, как быстро, живо горят бревна, неостановимо, с веселым треском…
Саня тушить баню не пришел, но на ремонт согласился.
– А Шурочка тебе разрешит? – на всякий случай осведомилась я.
– Она уехала, – сдержанно ответил Саня.
– Ну когда приедет…
– Она не приедет, – так же ответил Саня, почесывая ухо. – Совсем уехала.
Шурочка бросила Саню, купила домик в глухой деревне под Тверью, с хорошим огородом. Саня было запил, но потом подтянулся, снова стал исправно гулять с собаками, ровно по часам. Если идет с серой овчаркой, то – восемь вечера, если с черной – уже скоро новости на первом канале, без пяти девять… Подружился с таджиком, о чем-то по вечерам разглагольствует на большой веранде, где так и не успела толком пожить Шурочка.
Иногда из его дома слышится громкая музыка. Мы с Катькой, гуляя мимо, переглядываемся – неужто забыл Шурочку, гуляет наш Саня с кем-то? Да нет. Живет один, огород зарос, как положено, лебедой, Шурочкины цветы без ухода поблекли, флоксы заржавели посреди лета, розы измельчали, плохо цветут, хосты некрасиво сохнут по краям листьев. В двух тепличках Саня сваливает инструменты. Только буйно цветут алые и белые маки, разросшиеся около крыльца, семена которых я когда-то привозила Шурочке из Курляндии, а она все отмахивалась, не хотела сажать – уж больно культура странная, что люди скажут!..
Однажды мы увидели посреди огорода маленькую плотную фигурку. Шурочка стояла в цветном халатике, подбоченившись, и что-то сердито выговаривала Саньку. Тот виновато кивал, почесывался, соглашался.
– Вернулась? – ахнула Катька.
– Не знаю…
Нет, Шурочка просто приезжала за остатками вещей. Забрала все, что сердцу дорого и в хозяйстве пригодится. Большую кастрюлю, в которой она тушила в сметане кроликов – мы с Катькой дарили на Новый год, вышивку в золотой раме – Богородица Одигитрия, Шура вышивала ее как-то всю зиму. Той зимой всё отключали электричество, так Шура вышивала при свечке, и глаза совсем не болели. Наоборот! Очки пришлось даже поменять, на более слабые. Потому как вышивала Шурочка с душой, веря в то, что Богоматерь поможет и ее неприкаянному сыну, и дочери, живущей на краю Москвы в холодном общежитии, и больному внуку, которого бьют за глухоту в школе, поможет и ей обрести наконец в пятьдесят лет любовь и свой дом.
Забрала Шура зимние вещи, насовсем ведь уехала. Теплые мохнатые сапоги, кожаное пальто на меху, которое дарил еще первый муж, тот, что был до Санька. Муж был плохой, бил Шурочку, но троих детей родила от него как-никак, и от памяти никуда не деться. Санины подарки Шурочка брать не стала. Я потом как-то заходила к Сане за новым ключом от ворот и увидела за стеклом в шкафчике – как стояли, так и стоят: чашка с их общей фотографией, шкатулка, украшенная сердоликовыми цветами, в которой Шурочка хранила свои немудреные драгоценности, да мишка с мягким сердечком в руках, на котором написано «ай лав ю» – Саня дарил на День всех влюбленных. Мы с Катькой вежливо кивали, пока нам Шурочка, смущаясь, показывала этого мишку, а когда шли домой, покатывались, особенно Катька. Да и я недоумевала… Ну не бывает ведь так. Сто лет прожить вместе – это одно дело. А влюбиться в пятьдесят, притереться, терпеть друг друга… Чудеса.