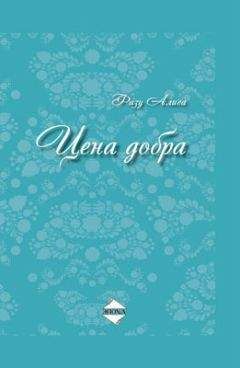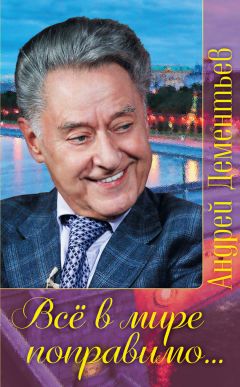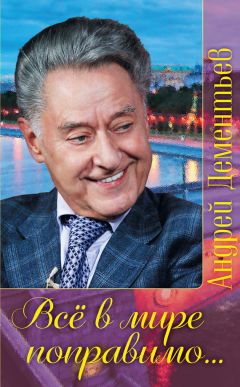Мария Голованивская - Нора Баржес
Всякую профессорскую интеллектуальную стряпню Павел никогда не считал знаком, который он должен разглядеть и уважить, в отличие от других нерукотворных обстоятельств.
Таких, например, как негласное появление Риточки на пороге: она, видать, стояла там давно и с интересом наблюдала за ним, а он не услышал ни доклада о ее приходе, ни ее прихода как такового.
Свежая, легкая, излучающая такое сияния этими рыжими кудряшками, этими светлыми ореховыми, словно из золота, глазами!
Написанное Майклу письмо дало ему прилив сил, он подошел к ней, посмотрел своими голубыми глазами ей прямо в глаза, ослепил высотой безупречного лба, красотой откинутых назад светлых локонов, привлек ее к себе, ощутил сладковатый запах ее духов.
Эта будет в самый раз, – мелькнуло у него в голове, приготовлена, как надо.
Поцеловал.
Медленно, чуть неуклюже потянулся рукой к собачке на двери, снял лямку сарафана с плеча, молча приник губами к сладковатой, в веснушках белой коже.
Я скучал.
Она поддалась.
Ей просто понравилось ощущение, она умела ловить эти ощущения, которые нравились ей, и цепляться за них, скользить по ним, кататься на них.
Ваша жена грозила мне.
Моя жена больна. А потом, мы ей не скажем, не скажем ведь?
Она хихикнула, и курок спустился.
Ты пришла, а я не видел, – шептал Павел, опуская ее на тот самый диван, где он дегустировал и электрическую королеву, и фею из бухгалтерии, – ты уже была, а я не знал.
Вы что-то так грустно писали…
Ну, утешь, давай, утешь меня…
Она была в самый раз. Как цыпленочек с мягкими косточками, которые глодать – одно удовольствие. Как суфле из крабового мяса, приготовленное потомственным итальянским поваром на берегу моря, со свежим лаймовым соком и дивным оливковым маслом, с листочком мяты и каплей морской воды на тарелке.
В ней не было ничего пережаренного, пересоленного, у нее был нежнейший естественный вкус, он исскучался по такому, он извелся без него в своей одинокой мальчишеской жизни, среди полудохлых медуз и второсортных птиц с жесткими ногами и крыльями.
Она нежилась с ним на его дегустаторском ложе. Она нашла в нем какой-то созвучие своей легкости, какую-то идущую от природы не-тяжесть, он так ловко и непошло гладил ее и целовал, так порхающе называл «ластонькой» и «девонькой», что она испытала к нему чувство родства и даже обиду за него: Нора совсем его, бедненького, не любит, совсем.
Они были вместе, как давние любовники, не замечали трещащих телефонов, пили шампанское из бара, похрумкивали дольками яблочка и сладкими печеньицами из ажурной фарфоровой вазы.
Смеялись. Он сварил кофе. Она, небрежно натянув сарафан, разлила кофе по чашкам.
Нора хочет, чтобы я съездила к Кремеру, поговорить о выставке.
О, старая развратница, – хохотнул Баржес, – но мысль неплохая, может, правда – съездим?
Они незаметно для себя стали строить планы какого-нибудь отдыха, впечатления: слетать, сплавать, съездить, потрогать, попробовать, ощутить. Они ненатужно разбежались по своим делам, ощутив происшедшее как всегда бывшее, удобное, привычное.
Господи, как же хорошо, как же мило!
Неумолимость мазка, неповторимость мазка – как запаха изо рта или формы ресниц, открылись Норе на последнем курсе суриковского института, когда она нашла различие между своим мазком и мазком Ван Гога, мазком Врубеля, мазком Моне, мазком Мазка, точнее не нашла этого отличия вовсе, когда желала повторить их линии. Ее копии были совершенны, идеальны, блистательны. Она мучительно повторяла, ее аккуратность и проницательность были сродни великомученическому подвигу, но своего движения, дыхания, запаха не рождалось, свой вкус не проступал: ее цветы вяли как чужие, ее море пенилось как чужое, ее любовники целовались как чужие, ее Магдалина плакала как не своя. И тогда она, безупречная во всем, решила, что и будет делать чужое, восстанавливать чужое, улавливая неповторимые отпечатки кисти, расшифровывая чужие преступления, пропуская сквозь свою смуглую кожу каждую клеточку великого прикосновения к миру.
Она видела почерк сразу.
Его направление.
Как режет, как членит, как соединяет сосуды зримого этот пресловутый мазок.
Она умела подхватить его, затерявшийся во времени, как стежок.
Она умела легчайшим прикосновением, без самозванства и вульгарности, вытащить утонувшую ниточку и проявить лаконичные пинии на нежном даже не пригорке, а бугорке в желтоватом вереске, оживить кремовый с розовыми всполохами густой аромат итальянского воздуха. Она умела, когда возможно, вообще не трогать то, до чего не дотронулось время: античные развалины на заднем плане, например, но дать густоты цвета на выцветшей тропинке, по которой шагает мальчик в шароварах (охра, киноварь), ведя под уздцы милейшего ослика, которому возвращены и попонка, и заклепки на уздечке – микроскопические, удаленные на сотню километров от глаза, но бывшие в действительности и теперь вернувшиеся в нее.
Ей хотелось масштаба. Ей хотелось мастерства. Ей было нужно почитание, преклонение, причем не от кучки кореек, берегущихся автомобиля, а настоящее, пышное, устланное лепестками роз.
Чувствуя безупречность, неумолимость мазка именно как прикосновения к жизни, она собрала класс, сделала в стенах одной небольшой комнатки в реставрационной мастерской свою школу, набрала туда мальчиков, брутальных, непокорных, шевелюристых, и научила их и себя с их помощью показывать чудеса дрессуры. Они научились улавливать ее приказы по глазам, мельчайшим движениям вечно ледяных пальцев, кончиков губ. Они воспроизводили не хуже нее осликов и попонки, опавшие лепестки белоснежных афинских роз, падающую с пронзенных ладоней кровь и прочее, без чего невозможно воскреснуть старому мастеру для новых душ и стен.
Они были влюблены в нее через эти ее прикосновения к холсту. Ее руки реставрировали, воскрешая, ее руки ласкали, давая почти умершему шанс оказаться видимым. Говорили, что она по очереди приближала их, чтобы уж наверняка завладеть их душами, она умело проходила сквозь их жен, любовниц, детей, не замечая их присутствия. Они все вместе ловили движение мазков, питались их плотью, перевоплощая их, они занимались этой любовью страстно и совместно, образовав братство, сестринство, мастерскую, трон для Норы, ее власть, ее господство.
Она называла их «мои мальчики». Она знала, где у каждого из них сердце, и изредка трогала его руками. Она знала, что именно они понесут ее окоченевшее тело к выходу на своих крепких плечах, удрученно потрясая густыми пегими и огненными шевелюрами.
Пришел Бо́рис Райхель. С которым вот уже двадцать лет писали и переписывали. Когда начинали, был беден, худ. Разглядела его, подняла, показала коллекционерам.
Нынче ему надо в Израиль, там его место.
Он поедет, она его понимает, он уверен.
Она болела хуже прежнего в тот день, когда он зашел сказать ей, она еще мучилась от призрака Риточки, она как раз хотела пожаловаться ему, опереться на его крепкие настоящие слова утешения.
Другой, Петр Зелин, который также был вассалом ей, а в мастерской пуще всех кулинарил и веселил, распевал французские шансоны, вот уже два месяца как назначен начальником какой-то экспертизы, что, конечно, большой взлет, а главное – власть над всем фальшивым, новодельным и посему недостойным высоких цен.
Он сам не сказал ей, может быть, побоялся или застеснялся, что бросает ее, меняет на Экспертизу, сам когда-то из Новороссийска, бедняк и всякое такое, теперь больных родителей в Москву перевозить надо. Он сделался как-то неприятно учтив, и он не разделяет Нориных взглядов на реставрацию в мастерской, и главное – на Экспертизу, он ведь много раз говорил это, когда сам был ее неотъемлемой частью. Она чувствовала от него недоброе, она с большим душевным напряжением осознавала, что талантливейший Петя вырос из нее, как лопух, и теперь стремится все заполонить сорняками своих суждений. Он хочет растащить трех других мастеров, назначить их куда-то, взлетать по служебной лестнице стаей, роняя по дороге своих перевезенных родителей, а ее даже не роняя, а капризно спихивая ножонкой, больно ударяя жесткой пяткой в ее тонкую переносицу.
Трое оставшихся сникли, завяли, осунулись, в одну минуту постарели и превратились в утиль. Их уже было бессмысленно пересаживать в другие дорогие и красивые горшки, их было бессмысленно удобрять, выносить на воздух, усиленно поливать. Мастерская – главная Норина профессиональная крепость – развалилась в одну минуту так глупо и неожиданно, что она не успела принять респектабельную позу или сделать вид, что таким и был ее замысел.
Ее накрыло целиком.
Она плакала, потому что понимала, что сделалась никчемной.
Она страдала от головной боли.
Она температурила и бредила.