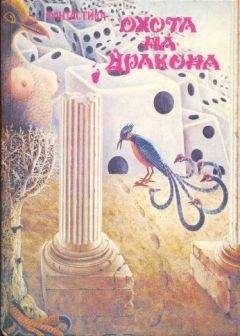Нина Нефедова - В стране моего детства
– Это же стихотворение Пушкина! Как не стыдно тебе выдавать его за свое!
– Нет, нет, Анюта! Зачем же так резко, – испуганно проговорил папа, – я убежден, Нина ничего не хотела приписывать себе. Это вышло у нее нечаянно. Вероятно, она когда-то слышала это стихотворение, две строчки врезались в ее память, а потом ей показалось, что она их сочинила. Так бывает…
Я сидела красная, низко опустив голову, боясь поднять глаза, мне было мучительно стыдно перед отцом, и в то же время я была благодарна ему за то, что он заступился за меня. Отец, отчасти, был прав. Я много читала для своего возраста и читала без разбору. На авторов книг не обращала никакого внимания. И вот однажды в журнале «Мир Божий» в какой-то повести я наткнулась на двустишие: «Зима. Крестьянин, торжествуя, на дровнях обновляет путь». В двух строчках мне открылся целый мир настроений и чувств. В самом деле, при слове «зима» разве не встает перед нами картина нашей чудесной русской зимы? Снег большими хлопьями медленно кружится в воздухе, и мягкий, пушистый стелется на землю. Лес стоит торжественный, тихий. Тронешь ветку, она качнется, обдаст тебя снежным каскадом, и снова тихо, тихо в лесу, как в заколдованном царстве. «Крестьянин торжествуя…» Конечно, мужик рад, ему надоела осенняя слякоть и бездорожье: ни дров привезти, ни за сеном съездить. «На дровнях…» Наконец-то, можно поставить эту дребезжащую, вихляющуюся туда-сюда по выбоинам дороги телегу под сарай и запрячь лошадь в сани. «Обновляя путь…» Перед глазами, точно наяву лежит ровная снежная простыня, и на ней далеко в даль протянулись следы только что проехавших саней…
Так думала я, снова и снова вчитываясь в поразившие меня строчки. Я не знала тогда, что их написал Пушкин. Мне казались они настолько просты и естественны, что их мог сказать каждый, в том числе и я. Вот почему я не очень грешила против правды, когда заявила, что их написала я. Они органично вошли в мое сознание. Но все-таки это был самый настоящий плагиат, и я всегда с краской стыда на лице вспоминала о нем. Стихи я не забросила, продолжала писать их. Мои «вирши» появлялись даже в школьном рукописном журнале «Огонек», но это были стихи о природе, о смене времен года. Свои «байронические» поэмы я стеснялась показывать даже отцу, они были нечто вроде дневника, в них выражались мои настроения, чувства. В пятнадцать лет я увлеклась поэзией Надсона. Для меня до сих пор остается загадкой, почему Надсон, поэт муки и отчаяния, был мне так созвучен в те годы. Ничего надсоновского, надломленного не было в моей жизни. Я была здоровая краснощекая, жизнерадостная девочка, воспитывалась в нормальной семье с хорошими моральными устоями. Писала же я такие стихи:
Я хотела б любить всей душою,
в страстной неге тоску позабыть…
Позабыть все страданья и жуки,
Накипевшие слезы в душе…
Сбросить цепи докучливой скуки
И забыться в чарующем, сне…
Никаких «страстных мук», «докучливой скуки» я не испытывала. Повторяю, я была здоровая жизнерадостная девочка, которая не испытывала желания «забыться в чарующем сне», так как и без того спала «дай Боже», меня могли вместе с кроватью вынести из дому, и я не проснулась бы. А вот писалось же так. Помню, как я мучилась, подыскивая к слову «скуки», рифмующемуся со словом «муки», соответствующее определение и написав «докучливой скуки», не была уверена, правильно ли использовала его. В моей жизни было еще несколько периодов, когда стихи не давали мне покоя. Один из них совпал с годами студенчества. Я писала много стихов, но не сохранила их, и в памяти осталось лишь начало одного стихотворения:
Весна! Далеко голубое небо,
С крыш дружная капель бежит,
Пахнет землею, талым снегом,
И под ногой льда корочка хрустит…
Глава 10. Годы учения
Первые три года в начальной школе я училась у мамы. Школа была в 2-х километрах от дома за поселком Одуй. Дорога шла через длинную плотину, соединявшую оба поселка, круто поднималась в гору, выводила за околицу Одуя, и там, на пригорке, у кромки соснового бора стояла наша школа. Белоснежная на фоне зеленого леса, она была очень живописна, казалась легкой, воздушной. И в самом деле, построенная по чертежам отца перед самой войной 1914 года, она была просторна, удобна и вполне соответствовала своему назначению. Тамбур, большая раздевалка, длинный коридор одним концом упиравшийся в учительскую, в другом конце его дверь в подсобные помещения: просторную кухню, умывальную комнату, в туалеты. По одну сторону коридора окна, выходящие на восток, по другую – шли двери в классы, их было четыре. Самая светлая комната – учительская, где единственное окно во всю стену выходило на юг, так что учительская постоянно была залита солнечным светом.
В большую перемену детей кормили завтраком. Мы рассаживались вдоль длиннущего стола, протяженностью во весь коридор, и школьная сторожиха, обходя нас с кастрюлей, каждому в его чашку вливала картофельную похлебку. Приправленная льняным маслом она была удивительно вкусна. Никогда позже мне не удавалось сварить такой похлебки. Может быть, имело значение и то, из какой картошки она была сварена? Уральская картошка белая, рассыпчатая уже сама по себе объедение, а тут еще приправленная луком, маслом и капустным рассолом. Завтраки были бесплатными. Школьники сами выращивали картошку, капусту и лук на пришкольном участке. И участок этот не походил на те ухоженные грядки, которые имеются теперь при школах, как обязательное приложение к урокам естествознания. Нет, участком нашей школы было поле, где высаживались не только картошка и капуста, но высеивался и лен, из семян которого потом давили масло. И поле это было не где-то за тридевять земель, а простиралось от самой школьной ограды. Участок вспахивался родителями школьников, но сажалась, окучивалась и копалась картошка самими детьми. Это были веселые уроки труда, навыки к которому прививались и дома.
Занятия в школе начинались в 9 часов утра и в 2 часа заканчивались. Каждое утро в половине девятого у ворот нашего дома останавливал свою лошаденку старик Прокопьич, с которым была договоренность о помесячной оплате. Лошаденка соответственно временам года была запряжена то в коробок, то в сани. Прокопьичу уже несколько лет было «сто лет». Крепкий, как гриб боровичок, он сохранил хорошее зрение и все до одного зубы. Дочь, 70-летняя старуха, у которой он жил, жаловалась маме, что она слышать не может, как отец хрумкает сухари: «Аж, у самой зубы ломит!». Прокопьич был очень аккуратен, не помню случая, чтобы он подвел маму и не доставил ее в школу к урокам. Зато мы должны были быть совершенно готовы к моменту, когда он подаст лошадь. Если я или сестра замешкивались, он не ждал и трогал лошадь, а мы вынуждены были бежать следом, догонять, а то и вовсе пешком приходить в школу, на своих двоих, как говорится. Тут уж и мама бывала безжалостна. Считалось, что она не имеет права даже на минутное опоздание. Кончаются уроки, выглянешь в окно, а Прокопьич со своей лошадкой уже стоит у дверей школы.
Мама была прекрасной учительницей, ее хвалили на всех учительских собраниях, прикрепляли к ней молодых для заимствования опыта, а при выходе на пенсию наградили таким адресом, что, читая его, нельзя было не прослезиться. Да, мама была героиня, такой она представляется мне и теперь. Родить двенадцать детей и ни года не пропустить из многих лет, отданных школе, разве это не геройство? Заботы по дому, о подрастающих детях, о муже, постоянно охваченном какой-нибудь идеей, сотни проверенных тетрадей, бессонные ночи возле постели больного ребенка. Сколько же требовалось на это и душевных и физических сил? и где, казалось, взять их этой высокой, хрупкой на вид женщине? Но неизменно каждое утро мама появлялась перед своим классом строгая, подтянутая, требовательная и…справедливая. Она любила своих учеников, любила свое дело, может быть, поэтому вопрос о дисциплине в классе никогда не стоял перед нею. Позднее, когда мама работала уже в восьмилетней школе, где полагался по штату и завуч, так тот, встревоженный тишиной, царящей в классе, приоткрывал дверь и заглядывал в класс. Нет, все в порядке, все увлеченно работают. Нередко маме передавали отстающие классы, и мама выправляла их. Ее ученики писали грамотно. Как она добивалась этого? Своим упорством, терпением, и этого же требовала от учеников. Не дай Бог, сделать в диктанте ошибку, мама не подчеркивала ее, дабы не закрепилась эта ошибка в зрительной памяти ученика, а тут же в тетради сама правильно напишет это слово. И заставит 10, 20, а то и 30 раз переписать его, чтобы потом, привыкнув, рука уже автоматически правильно выводила это слово. Большое значение она придавала и классному чтению вслух. Не терпела невнятного бормотания, требовала, чтобы каждое слово ученик произносил ясно, отчетливо, справедливо полагая, что неряшливая речь ведет и к неряшливому, безграмотному письму. Во время диктанта и сама старалась произносить слова четко, чтобы ученик не делал лишних ошибок, тогда как другие учителя, стараясь проверить грамотность учащихся, диктуют нарочно невнятно и тем самым, того не желая, сеют неграмотность. Запомнились мне мамины уроки еще и тем, что она умела разнообразить их. Так, в III классе она раздавала ученикам карточки с образцами неразборчивого почерка, и мы должны были расшифровать написанное, что и делали с превеликим удовольствием. Бьешься, бьешься, бывало, над каракулями, и звонок на перемену воспринимаешь как досадную помеху. Как я теперь понимаю, на карточках были факсимиле – точное воспроизведение (печатное) документа или рукописи какого-нибудь писателя, почерк которого был особенно неразборчив. Да, были, оказывается и такие учебные пособия в земской школе, как набор карточек с факсимиле. На уроках же письма мы знакомились с тем, как следует писать прошения, заявления, почтовые адреса.