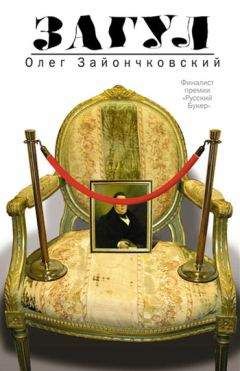Олег Зайончковский - Кто погасил свет?
Но Урусов с Пушкиным не думали присоединяться к этим игрищам мелководных дилетантов. Собираясь совершить порядочный заплыв, они неторопливо пошагали вдоль берега вверх по течению, с удовольствием остужая пятки во влажном прибойном песке. Однако друзьям не пришлось одолеть и двухсот метров, когда перед ними возникло препятствие, увы, часто случающееся на волжских пляжах. Впереди лежало поперек берега нечто, похожее издали на выброшенный топляк, но то было не бревно, а туша большого мертвого осетра. Пляж к северу от гниющего трупа был пустынен, да и с наветренной южной стороны человечья залежка отстояла от него десятка на два шагов. Пространство вокруг павшей рыбины сделалось зоной интересов очень крупных серьезных мух, барражировавших в воздухе с низким, доходящим до стрекота гудением, – казалось, все мушиное начальство слетелось сюда по случаю важного обеда. Словно незримая черта разделила на берегу жизнь и смерть: покуда на одной половине осетр величественно разлагался и торжествующие мертвояды уже вовсю правили тризну, на другой люди сами вымачивались в реке, и смазывали свои тела кремами, и пеклись на солнце до выделения сока, до корочки, будто готовились к пиршеству, на котором им предстояло явиться угощением.
И все же, пускай накоротке, Пушкин с Урусовым сплавились по течению; Волга-матушка успела омыть их – она унесла соль их тел в Каспийское озеро, без того уже соленое от пота бесчисленных волжских купальщиков.
Вернувшись к своей стоянке, друзья нашли отца Зиновия обнаженным и лежавшим навзничь в сени куста. Несколько заинтересованных мух, близоруко присматриваясь, уже кружили над недвижно распростертым телом; пара из них – самые неосторожные – бились у батюшки в бороде, насмерть перепуганные его неожиданным всхрапом. Заслышав голоса, Зиновий приоткрыл один глаз и скосил его на подошедших товарищей:
– Как вода?
Не получив ответа, он перевернулся на бок; живот его, прежде возвышавшийся залешенной сопкой, вывалился рядом на песок. – Еще по пиву?
Друзья пустили канистру по кругу.
– Однако, святой отец, – заметил Пушкин, – тебе сегодня будет в чем исповедоваться.
– Нет, – рассудительно возразил Зиновий, – в таком виде исповедоваться нельзя. – Он рыгнул и отер с бороды пивную пену. – Я, брат, сам недавно одного типа к причастию не допустил.
– Вот как?
– То ли обкуренный, то ли пьяный… рука сломана, а так разбуянился, что пришлось его из храма вывести.
– Нелегко нам с людьми работать…
– Не говори…
Урусову показалось, что пиво расположило батюшку к беседе.
– А у меня, – вступил он в разговор, – недавно тоже приключилась история. Хочешь расскажу?
– Что расскажешь?
– Ну… мою историю.
Зиновий вздохнул:
– У тебя, Саша, была история, а мне – еще предстоит. Наталья моя к благочинному с кляузой собралась… о-хо-хо… Он почесал у себя под бородой и перешел вдруг на пастырский тон:
– У каждого, сын мой, есть своя история, а у Господа нашего – своя… Давай лучше проживем сегодня без историй, как птицы божии…
Сказавши это, батюшка снова перекатился на спину.
Урусов не настаивал. Он отвернулся от Зиновия, закурил и стал глядеть на реку. Птицы божии чайки, несмотря на жару, без устали кормились. Они взблескивали в дрожащем воздухе, словно подброшенные монетки, и падали в воду, ловко выхватывая из нее небольших извивающихся божьих рыбок. Там и сям вдоль берега голые дети в панамках сосредоточенно ваяли что-то из мокрого песка. Совсем еще маленькие и не имевшие своих историй, они, тем не менее, подвластны были человеческому инстинкту созидания – даже писали под себя, не отрываясь от дела.
Отец Зиновий, поскупившийся на общение, проявлял зато активность на пивном фронте. Благодаря его долевому усердию канистра скоро опустела. Констатировав этот неутешительный факт, Пушкин с батюшкой сделали короткое совещание.
– Урусов… – обратился Семеныч к Саше, курившему с отрешенным видом. – Проснись, старик… у нас пиво кончилось. Надо в город идти… заодно и перекусим.
– Я не пойду, – не оборачиваясь, вяло ответил Урусов.
– То есть как это?
Зиновий нахмурился:
– Грешно, сын мой, отрываться от коллектива!
– Не хочу больше пить… – Саша лег на песок. – Я сегодня не выспался, и вообще…
– У него сплин, – пояснил Пушкин, – невротическое расстройство.
– Какой еще сплин? – рассердился Зиновий. – Это у меня расстройство, и притом ни гроша в кармане… Пусть тогда хотя бы денег даст.
Урусов ссудил батюшку сторублевкой и почти равнодушно простился с обоими приятелями.
Оставшись один, он подумал, что ему и в самом деле неплохо бы заснуть. Саша лег на спину… но сон, настоящий сон, не шел к нему, только душа и тело растапливались в пляжной дремотной одури. Открывая глаза, Урусов видел над собой зеленый ивовый шатер, чрезвычайно густо населенный. Не обращая внимания ни на Сашу, ни друг на дружку, многочисленные насекомые спаривались либо просто ползали по веткам или бесцельно перелетали. Мухи, столкнувшись на лету лбами, обе падали на землю и барахтались, но потом снова взмывали, чтобы быть поочередно склюнутыми запорхнувшей вертлявой птичкой. Все тут существовало одним мгновением, будто следуя совету отца Зиновия, и никто, похоже, не имел шанса дожить до старости, кроме разве что панцирного древесного клопа, который в расплату за долголетие обречен был весь век вдыхать собственное зловоние.
Постепенно Урусов словно потерял чувство времени; остальные его чувства тоже как-то притупились. Не выходя из транса, Саша несколько раз купался и донырялся до боли в ушах. Возвращаясь на место, он то сидел, то лежал без мыслей в голове, слушая только неумолчный пляжный гвалт. Однако время не остановилось. Медленно, но неумолимо поползли к реке береговые тени; какие-то ветерки набежали, пуская рябь по воде, шевельнули ивы и… передали Урусову привет от мертвого осетра. Саша загасил сигарету и поднялся с песка, оставив на нем запечатленными формы своего тела. Сейчас только он почувствовал, что его кожа саднит словно у рыбы, выскобленной перед готовкой; в голове Урусов слышал звон, как от удара футбольным мячом. Страдальчески морщась, он натянул штаны и майку, повесил на плечо сумку и с плетенками в руке, босой, медленно двинулся с пляжа. Ноги его увязали и с каждым шагом обнаруживали в неостывшем песке что-то больно коловшее ступни. Выбравшись на твердую почву, Саша отряс с подошв прибрежный прах и обулся. Он не помнил, где находилась ближайшая остановка транспорта, но после минутного раздумья, положась на общее чувство направления, просто пошел вдоль набережной в сторону севера.
10
Неудачные дни случаются у каждого кота, если только он не приговорен судьбой к пожизненному домашнему заточению, но тогда это неудача всей жизни. Вообще везение – большая редкость в делах хищников: из бесчисленных охотничьих предприятий лишь очень немногие заканчиваются успешно. В этом смысле зерноядные гораздо счастливее – даже в арифметическом рассуждении: если кошка поймала голубя на сто первый раз, то соотношение удачливости – сто к одному в пользу голубя. Однако неудача неудаче рознь. С Семой сегодня приключилась не просто неудача, а подлинное несчастье.
День, казалось бы, начался по обычному своему сценарию, то есть с ежеутренней миграции двуногих. Некоторое время двор оглашали хлопки подъездов, топот, отрывистые голоса и кашли. Но скоро все стихло и табачно-одеколонный человеческий смрад постепенно развеялся в воздухе. Голуби по одному стали опускаться на освободившийся двор, чтобы продолжить свою прерванную ассамблею. Не теряя времени, они сразу же приступали к занятиям – кому что было по душе: одни брали пылевые ванны, другие клевали людские плевки, третьи, раздавшись в толщину и напевая голосом засорившейся раковины, вальсировали сами с собой – вальсировали не столько в знак страсти, сколько для собственного удовольствия. Сема, давно уже занявший в палисаднике исходный рубеж, перестал чесаться и посерьезнел. Между птиц, одетых в форменные серо-синие мундиры, он искал глазами известного ему большого хромого сизаря, чтобы продолжить с ним отложенную партию, длившуюся, почитай, с самой весны. Давно уже кот приметил, что одноногий любит играть с судьбой, любит заглянуть в лицо опасности своим пуговичным глазом и в случае угрозы взлетает всегда последним среди безмозглых, но благоразумных своих собратьев. Впрочем, Сема выцеливал этого голубя не затем, чтобы наказать его за самонадеянность, а из чистого охотничьего расчета, основанного на инстинкте и опыте.
Обнаружив одноногого, кот от возбуждения даже затявкал. Мышцы его буграми вздулись под шкурой; зад пришел в колебательное движение; хвост затрепетал… В эту минуту поле зрения Семы сузилось как бы в тоннель, в конце которого хромал и поклевывал какую-то чепуху вожделенный сизарь. Еще миг, и последовала бы атака – страшная кошачья атака, которая снится голубям в ночных кошмарах, – они тогда начинают ворочаться в своих гнездах и хлопать крыльями, в немом ужасе разевая клювы. Но… в это мгновение рядом раздались чьи-то шаги.