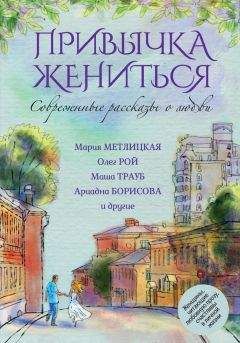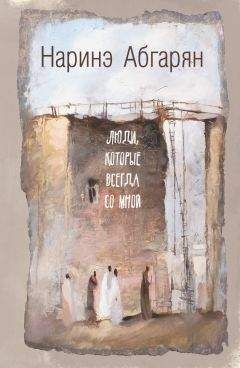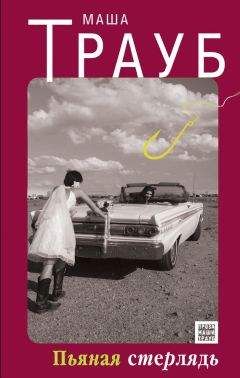Маша Трауб - Современные рассказы о любви. Адюльтер
Марта его жалела и раздражалась одновременно. Ведь она была уже дама из другого общества, как бы другой сорт. Свидания становились все реже. Галинина квартира была теперь занята.
Инженер Петров пришел к Галине совсем – наконец. Мечта ее сбылась. Просто ее инженера выпихнула из дома жена, успешно возившая из Турции кожаные изделия. Бизнес шел, а гулящий и нищий надоевший муж – лишние траты и обиды. Теперь жена Петрова наслаждалась свободой, а Галина – счастьем: варила борщи и стирала рубашки. Все поровну. Всем сестрам по серьгам. Счастье пришло. Да и вообще настало другое время. Время успешных и неуспешных. Хотя скорее время успевших и неуспевших.
Смирнов уже вращался в почти «высших» кругах. Его клиентами стали известные люди – актеры, музыканты, спортсмены, политики.
Катька росла тихой и спокойной девочкой – лицей, гольф, верховая езда.
Внешне – увы! – не Марта. Пухлые щечки, голубые глаза, курносый нос – Смирнов. Хорошая девочка. Не проблемная.
О том, что у Смирнова появилась девица, Марта узнала от новых знакомых – нашлись доброжелатели. Интересно? Конечно, интересно. То, что Марта увидела, ее не удивило: круглые глазки, тоненький носик, белые волосики по плечам, худые ножки, на голову выше Смирнова. Все, как положено, все, как у всех. Не это странно, а странно, что Смирнов ее повсюду за собой таскает. Не боится. Деньги придали ему уверенности и спокойствия – что же, так было всегда, во все времена.
Марта не ревновала. Она была уязвлена. И еще она обиделась. Только решила Смирнова полюбить, а тут на тебе – щелчок по носу. Дома он теперь бывал редко – встречи, тусовки, командировки… Мелькал в ток-шоу, в каких-то глянцевых журналах. Иногда попадались фотографии с этой самой девицей. Вот это уже была наглость.
– Ну правильно, – рассуждала Галина. – Сколько лет ты его не замечала, еле терпела, носик морщила. Вот он и отрывается. Ему ведь тоже хочется, чтобы его любили, в рот смотрели, жалели, ждали, тапочки подавали. А ты? Ты пинала его всю жизнь. Вот и получи, что заслужила.
Галина стала еще беспощаднее. Она-то, героиня, своего «выходила». А кто посчитает ее страдания и слезы? Кто знает об этом всю правду?
А у Марты дочь – умница, муж – адвокат, дом на Рублевке, иномарка, шуба из стриженой норки. Кого жалеть?
Марта решила объясниться со Смирновым. Он слушал, не перебивая, кивал, а потом поинтересовался:
– Детка, тебе чего-то не хватает? Я добавлю.
Это был удар ниже пояса.
– Я развожусь, – поспешила Марта.
– Скорее всего, не стоит, – улыбнулся Смирнов. – Пусть все останется как есть. Так лучше для тебя. И потом, ведь твоей свободе ничто не угрожает? Впрочем, как всегда, – добавил он и вышел из комнаты.
Первый раз в жизни Марте не была нужна ее свобода.
– Просто он разлюбил меня, – твердила она. – Сколько можно? Всему есть предел.
Жили они теперь на два дома. Марта – за городом, Смирнов – в московской квартире. Встречались редко. Общались сухо и по делу. Марта постарела и подурнела, как-то сникла. Жила как автомат. Ее жизни позавидовали бы многие, но кто знает, что у человека в душе? Изотова она через знакомых устроила в частную клинику, но он там долго не задержался – поддавал. Она его жалела, как сестра жалеет непутевого брата.
А Смирнов? Марта смотрела на него со стороны и думала, что, в общем, он ей нравится и вообще жалко, что этот мужик – не ее. Но виду не подавала. Потому что гордая. Теперь у нее было все и не было ничего. Не было любви. Жить стало неинтересно. Дочь училась в Англии. У родителей была обеспеченная старость. С Галиной пути разошлись. Изотов спивался и скандалил с женой. А Смирнов… Смирнов Марту уже не любил. Сколько можно?
Марта выпила пачку феназепама и запила стаканом виски.
Смирнов заехал случайно. Через час было бы уже поздно.
Марта лежала в больнице месяц. Смирнов оттуда почти не выходил. Он сидел рядом на стуле и держал ее руку. Когда она пришла в себя, то слабым шепотом спросила:
– Ты вернулся?
Смирнов ответил:
– А я, собственно, от тебя и не уезжал.
Марта закрыла глаза и улыбнулась слабой улыбкой. Потом быстро заснула, в первый раз за все время – спокойно. Она была еще очень слаба.
Ирина Муравьева
Жена из Таиланда
Деби Стоун, с зимы изучавшая русский язык, и Люба Баранович, ее учительница, молодая, недавно эмигрировавшая из России, стояли на платформе и напряженно всматривались в усыпанную мелким дождем темноту, откуда должен был вот-вот появиться поезд. И он появился: сначала горящие, выпученные глаза его, потом ярко-черная морда и, наконец, все его натруженное, длинное и скользкое тело, внутри которого находились те, которых они поджидали. Пока заранее улыбнувшаяся Люба не подошла к ним и не заговорила, они, насупленные, стояли возле своего вагона, не двигаясь с места. Услышав Любино «здравствуйте!», прибывшие оживились, и самая высокая из них, большегрудая, рыжая и растрепанная, с бантом в помятой прическе, бросила свою сумку наземь и всплеснула руками так энергично, как будто и Люба, и стоящая чуть поодаль смутившаяся Деби были первыми на свете красавицами. От резких движений рукава ее плаща съехали, и большие часы под названием «Командирские» сверкнули, как летнее солнце.
В восьмиместном автобусе, взятом напрокат специально для съемок, помчались в гостиницу, где Деби еще вчера зарезервировала несколько номеров. Чернокожая дежурная с распрямленными кудрями, которые она все время сдувала с переносицы, оттопырив свою лиловатую нижнюю губу, сняла копии с российских паспортов и, широко улыбаясь, сообщила, что завтрак накроют внизу рано утром. После этого гости наконец-то отправились спать, а Деби, смущенная, с Любой, взволнованной встречей, тревожно кокетливой, тоже расстались.
Ночью раздался звонок, и Люба, успевшая лечь и закрыть свои веки, узнала хрипловатый голос Деби, бормочущей чушь и нелепость:
– А мы ведь должны им помочь! Какие прекрасные люди! Если нас попросили участвовать в съемках, значит, это что-то важное для твоей бывшей страны. Я понимаю, что ты уехала и, верно, обижена, да? На вашу страну и на партию. Я понимаю. Однако же люди – при чем? И какие! Ты видела: там есть писатель? И он мне сказал, что он «малчык войны». А что это: «малчык войны»? А рядом был Петья. И он оператор. Такой смешной нос! Как у утки. Ты слушаешь, Луба?
«Луба» кивнула и увидела, что в зеркале вместе с ее покорным кивком уже отражается дерево. Дождя больше не было. В небе, как астра, рассыпалось утро.
Съемки начались в одиннадцать, но не в Гарварде, как предполагали поначалу, а в большом и неуклюжем доме Деби, которой благодарные гости решили сделать приятное и предложили выступить перед многомиллионным российским зрителем.
– Я что говорю? – Рыжая Виктория надвигалась на Любу в своей золотой, с черным бархатом кофте. – Что женщина – главное в мире! Вот кто-то сказал, я не помню, ну, типа царя Соломона, что женщина – это приятно! И он не ошибся! А Деби для нас ведь находка! Простой трудовой человек из Америки всю жизнь посвящает тому, чтоб помочь! Вот этих казахов она привезла, малышей. Ну, бедняжечек этих! Из Алма-Аты. Они здесь закончат колледжи, вернутся домой. Им Деби сейчас ближе мамы!
Люба не стала объяснять, что у «бедняжечек» из Алма-Аты были отцы, которым принадлежали нефтяные и газовые скважины, а сами «бедняжечки» познакомились с доверчивой Деби на конференции пацифистов, случившейся летом в Алма-Ате, где они работали переводчиками.
Широкое лицо хозяйки пылало пожаром, и шелковая блузка, в которую она нарядилась для съемки, была тоже жаркого красного цвета.
– Котенка, котенка ей дать! – командовала Виктория. – Большим крупным планом – котенка! Животное! Близость к животным! Гуманность! И скажем за кадром, что сердца хватает на всех! Всех спасает!
– Да прямо уж – всех! – лениво усмехнулся оператор с носом уточкой и подмигнул Деби. – Кого же она, бляха-муха, спасла-то?
– Кого? – возмутилась Виктория. – Ах, Петя, ты скажешь! Да вот хоть котенка! Гуляет в лесу, видит: мертвая кошка. Ну, кто наклонился бы? На руки взял? Сдох, и ладно! А тут… Тут ведь сердце! Берет она кошку и мигом в больницу! И все трансплантируют. Все, до копейки! Все почки, всю печень. Включая и глазик. Да, глазик! Искусственный. Цвет-то! Как небо!
Кошка повела на оператора большим, ярко-синим, загадочным глазом. Второй глаз был карим, почти даже желтым, и видно, что свой, от природы, обычный.
– Черт знает! – пробормотал оператор. – У нас человека лечить не пристроишь, а тут, бляха-муха…
Через два дня русскую команду, нагруженную еще больше, посадили в нью-йоркский поезд. Поэт Сергей Егоров, «мальчик войны» и автор нашумевшего стихотворения «Мои яблоки», ставшего песней, не менее знаменитой, чем «Подмосковные вечера», припал к Дебиной руке. Рыжая горячая Виктория обняла ее, вся задохнувшись: