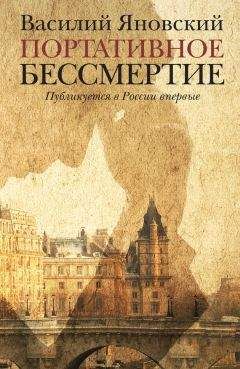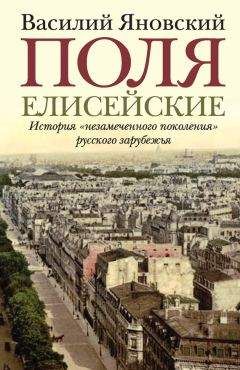Василий Яновский - Портативное бессмертие
4
Снова улица: вокзал и его ореол – позади. Кругом снуют – повисли в воздухе – рожи, носы, брюха: растерянные, отравленные. Они приходят к врачу, недовольные собою, и жалуются. Им хочется бессмертия. Требуют пилюль и капель: против отрыжки, изжоги, запора. Вытяжек, вакцин и свечек. Раздеваются ловко, подставляя ягодицы. Бегут дальше. С кульками, свертками, портфелями, зонтиками, мешками – спешат к себе. В нору. Кормить того ребенка, а не этого, своего мужа, а не чужого. Чета бредет рядом («с своей волчихою голодной выходит на дорогу волк» [84] ), где-то ждет детеныш. Это его жена: только он может ее трогать. Супружеская пара: странное, двухполое существо, симбиоз двух организмов. Скучают, равнодушны, неинтересны друг другу – биологически-социальный контракт (акула и рыба-лоцман). Спешат: что-то в прошлом упустили. Торопятся даже отдыхая: съесть, развлечься, исчерпать, наполнить. Был такой час вечера, когда некий маятник уже откачнулся, чаша весов ощутимо поднялась: кто решил в театр, – давно в театре; на свиданье – уже встретились; лечь спать – дома укладывается. И только отсталые, неудачники – редкие пары, одиночки (что-то случилось, расстроилось), не успев приткнуться ни к одной из основных, нормальных колонн, слонялись раздраженные, отчаявшись в жизни, в дружбе, в любви, нерешительно озирались, спрашивали себя, небо, прошлое: как же убить этот вечер?.. Тупо останавливались у витрин синематографов, где звонили, словно ко второму Евангелию, к второму фильму, с отвращением входили. Страдающие, ждущие нежности, чуда – достойные его, – обо всем смутно догадывающиеся, – трусы, глупцы, упрямцы. Вот Бог создал сынов и дочерей, они купили галстуки и подштанники, манишки и лифчики, побежали в разные стороны по частным делам, – гнев охватывает меня (благодаря памяти о другой участи, возможной, уготованной). Тогда я меняю вариант: вот барахтается «ни рыба, ни птица», выползает на берег, семенит на четвереньках обезьяна, влезает на дерево, вот поднимается на задние лапы, берет кирку, циркуль и лопату – созидает, мучительно храня равновесие, преодолевая хвост. Я чувствую радостные слезы: хочется пожимать косматые лапы, восторгаться случайным фокусом, помогать, планировать подземные уборные, чтобы по крайней мере туда шли гадить, если иначе нельзя, – прощать, снисходить. «Я мог бы хорошо относиться к своим клиентам, если б отказался от их божественного начала. Но это ложь, и я не хочу!» – решает нутро. Сажусь в поезд. В этот час трудно определить характер случайных пассажиров (за исключением продажных тварей обоего пола), гуляк, держащих курс на Монпарнас или Монмартр. Спереди – мужчина: смотрит через мое плечо в конец вагона. По его взгляду догадываюсь: там женщина. Оборачиваюсь: отлично сделанная, серийно желанная – все, что требуется для любви в местном значении этого слова (индивидуальные особенности порождают душевные отношения, ослабляющие физиологию). Долго гляжу на нее, впиваясь естеством, тупея, и эта струя вожделения, по таинственной индукции, вдруг вызывает ответную: удвоенно-острую нежность потери (детство, Лоренса) и верную грусть: они точно питают друг друга (тление – цветение). Щупаю рукой золотое сердце – словно крест – глажу его и, предельно истощенный, умирая душою, прося снисхождения, снова обращаюсь, припадаю к этому чувственному, манящему, доступному мясу или хлебу пола. Эта женщина, по-видимому, щеголяла чулками и обувью. Ее ноги, схваченные легкими туфельками, в дорогих, паутиновых чулках, эти ноги, как легендарные рычаги (нашедшие точку опоры), сдвигали вселенную, переворачивали души; за право ими обладать яростно боролся мир самцов, за право их обуть сражались фабриканты; войны, революции вызывали эти требующие шелков конечности, и смерть венчала исходящую от них похоть. «Господи, что же мне делать! Помоги, раз ты меня искалечил!» – наступает тишина (как при сабельной рубке); вот я начинаю улыбаться: «Нет, я не кролик!» – шепчу и смеюсь. Уверенно откидываю двери, схожу: горд, благодарен, минуту совершенно покоен. Гуляю по бульвару, покупаю табак; у Gare Montparnasse [85] направляюсь в знакомое (смутно) кафе. Играет дамский оркестр (по воскресеньям и четвергам), полупустой зал вдвойне пуст благодаря зеркалам. «Пиво, журналы!» – оглядываюсь по сторонам и цепенею: сбоку (там же, где в первый раз), за угловым столиком вся тройка – Николь, вивер и «вторая». Николь – спиною ко мне; вторая, склонившись, что-то взволнованно шепчет виверу на ухо, а тот мечет кругом такие взгляды, что мне становится нехорошо. Приносят пиво, расплачиваюсь, одним махом выцеживаю три четверти кружки. Трусливо отвожу глаза, произвожу какие-то зачаточные движения атлета (ненавижу себя); усталость и печаль: все равно не поймут (как, впрочем, и я)… «Сейчас он меня ударит, – почти с радостью думаю. – Сильный остолоп, он прав!» – весь подбираюсь, куда-то перемещаю центр тяжести: защитная работа мышц и витальных центров. Вивер переливает содержимое рюмки себе в рот, похожий на рану, и решительно вскакивает. “ Robert, Robert! ” – раздраженно взвизгивает вторая и начинает запахивать жакет. Николь сидит спиною к залу, опустив голову. Вивер приближается: разъяренный, кровавый, тяжелый. «Я вас ищу, – говорю неожиданно, с любезною улыбкой. – Может быть, вы присядете!» – ласково указываю место на скамье; и он, не успев изменить братоубийственного выражения лица (прибавив только смешную черточку удивления), шлепается рядом. «Позвольте мне быть совершенно откровенным, но это, конечно, между нами!» – таинственно шепчу. “ Parfaitement, parfaitement! ” [86] – озабоченно выдыхает он. Дамы с горестным любопытством следят за нашими движениями. «Я болен и не хотел рисковать будущим такого очаровательного существа». Для вящей убедительности прибавляю ряд подробностей. «Но вы лечитесь?» – не сдается тот. «Лечусь давно, но всё позитивен». Он соглашается. «Это бывает. Я был позитивен в 1918-м, тотчас после войны. Нет, – прерывает себя. – Право, вы чудесный парень. Ей-богу, это отлично. Я сразу сказал: надо выслушать другую сторону. Не безумец же он (хотя эти иностранцы…). Вы понимаете – конфиденциально – Николь очень обижена. Она не привыкла. О, нет. Еще бы. Вообще, знаете, я представитель по продаже автомобильных частей и поэтому всегда защищаю наш цех: в какой бы переплет représentant [87] ни попал, я на его стороне. Так и здесь: прежде всего я поддерживаю интересы мужчин. Будь она мне сестрою или даже женой. О матери я не говорю: мать – святыня. Нужно развивать солидарность. Раз братства нет, то должна быть хотя бы солидарность. Я всегда повторяю: без солидарности Франция погибнет. Почему мы держались во время войны? Неужели только немцы могут нас объединить? О бошах [88] я ничего не говорю, но заметьте, неужели без них нам предстояло бы вечное разделение? Ну да, но в данном случае я был потрясен, обратите внимание, ведь это я вас свел. А? Такая женщина, и вы убегаете, довольно странно. Моя – целый день плакала со злости, перерыла комоды: уверяет, что вы унесли кружевную накидку.
Я ей сказал: оставь этот вздор, кому нужен твой чехол, он найдется, но если я встречу этого субъекта, то мы серьезно объяснимся. Между прочим, я не считаю ваше дело проигранным, – закончил он нежданно. – Конечно, вы поступили даже благородно, но раз вы лечитесь, то она не имела бы претензии. Любовь!» Я горячо запротестовал: «Нет, нет, Николь достойна лучшей судьбы! Какая прелесть! Расскажите ей всё не таясь: я вдвойне заслужил это наказание». Мы выпили по рюмке коньяку и подчеркнуто-дружески попрощались. (Вторая гневно передергивала плечами.) Я дал крюк, чтобы не проходить мимо их столика; возле оркестра (семь девиц в шароварах) задержался, лавируя меж множества стульев, падких до случайного зрелища клиентов. У карусели дверей – Николь. «Вы здесь?» – спрашивает и переводит дыхание. Беру ее руку, треплю, глажу. Догадываюсь: она только что прыгнула, головою вперед, с трамплина… и так хочется ее похвалить, наградить (а в душе голос, неслышные скребки: тревога, тревога). Мы поворачиваем в сторону Люксембургского сада, лениво, молча бредем (так, очнувшись, раненые, прихрамывая, а где ползком, выбираются ночью с поля сражения). «Вы русский?» – спрашивает она. Мы спускаемся к Сэн-Мишелю [89] , пьем кофе у площади, пересекаем Сену.
И вот справа от нас качнулись, встали корпуса Hôtel-Dieu [90] . «Здесь я когда-то принял ребенка, – говорю. – Его нарекли Морисом. А фамилию не помню». Она долго, веще смотрит на внушительные ночью госпитальные стены, редкие освещенные окна коридоров, фиолетовые ночники – дежурных и бдящих в палатах. «Как это ужасно, – ее всю передергивает. – Лежать вон там, умирать, а за спиною город». Мы углубляемся в сеть мелких улиц – на восток и север. Случайные прохожие; возвращаются с дремлющими детьми на руках, усталые жертвы воскресенья. «Иногда между вами и встречным: фонарь, дерево, столб… хочешь разглядеть лицо, но оба передвигаются, так что экран все время в центре и заслоняет». Ей это знакомо. У почтового ящика – араб в ярких, желтых башмаках; нерешительно протягивает письмо, опускает; хочет шагнуть назад, но вдруг, усомнившись, беспокойно нагибается, читает объявление, снова касается ящика и, неудовлетворенно, недоверчиво озираясь, отходит. Характерное чувство потерянности. Он долго собирался, писал, лизал языком, заклеивал конверт, приобретал марку – все это одна цепь, причинно-следственная; когда служащий извлечет пакет, отвезет на почту (стукнут штемпелем, доставят адресату), – будет вторая. А между ними разрыв, неуверенность, прорва, тьма, черный ящик, чудо, случайность, переход с одних осей на другие. «Чем отправлять письма, я предпочитаю получать! – прерывает Николь. – Я всегда волнуюсь в таких случаях, пока не прочитаю. А распечатанное письмо мне неинтересно читать: должна заставить себя. Если важные сведения, радуешься или горюешь, но это уже другое». Я это понимаю: «Это будто ребенок, – подсказываю. – Он еще может быть и Шекспиром, и Пастером, полководцем и боксером, тогда как взрослый (распечатанный) уже только одно (чаще всего бухгалтер)». Николь осведомляется: «Вы любите детей?» На Avenue de la République [91] синематограф-актюалите [92] до поздней ночи повторяет свою короткую программу. Несмотря на весь этот изнурительный день, не имея определенных видов, не зная, что с нею делать, куда идти дальше, я как-то подло суетился, взвинченный двусмысленностью, неустойчивостью положения. «Хотите, зайдем, если вы любите документальные фильмы!» – предложил я. «Только я за себя плачу», – настояла она. В зале сидело несколько десятков уже последних неудачников. Мы смотрели, рядом, локоть к локтю, хронику и репортаж в красках: путешествие на остров Бали. И так же неопределенно, рассеянно побрели вверх: avenue Gambetta [93] . – «Как тут хорошо, – восторгалась Николь. – (Неузнаваемые ночью отвратительные места.) – Я этой части города совсем не знаю». Она говорила мало, но все в форме вопросов; было в ней что-то детское, рассудительное и уютно-семейное. Здесь нет возрастов в обычном понимании, вспомнилось мне. Девочка одиннадцати лет мыслит почти как ее мать и так же считает. Они развиваются душою, опытом, сексуально до четырнадцати, а потом застывают, фиксируются алкоголем жизни на этой ступени. Помнишь, в госпитале, семидесятилетние старцы: мы их лечили от свежих стигматов любви. Приезжают из провинции гулять с гитанами [94] , как один выразился. Он заставил ее раздеться целиком; во время сна его ограбили. Что общего между таким и азиатским дедом: беззубые мощи, хлеб и вода: сидит на завалинке в полдень и кланяется миру. «У нас нет больше возрастов. Есть только особи разного веса и объема, одинаково жаждущие»! – учил Жан Дут. А локомотив сейчас, заревев, выбегает на прогалину. В детстве все казалось просто и велико. Его следовало реализовать: любое детство – это и есть бессмертие. Какую жизнь я знал впереди? Уже ясно: не удалось. Но где, где же… Пожалуй: всем не удалось. Мы огибали госпиталь Тенон {21} . Николь снова остановилась как зачарованная: особый град, решетки, казармы, темные полыньи окон и губительно-редкие огоньки коридоров, дежурных. «Все же как это, должно быть, ужасно», – сказала она опять, бросая в сторону взгляд – растерянно-пробуждающийся (что-то мне важное напомнивший еще тогда, в кафе). Вдруг произошло соединение, вспыхнула, метнулась искра, растворы смешались, реакция удалась. Я узнал наконец (по обыкновению, слегка разочарованный, таким будничным казалось то, что мучило, тут, на пороге сознания: обязательно хочется выудить, а не дается). Так однажды посмотрела моя больная, просыпаясь после операции: очнулась и кинула блуждающий, жалобный, надломленный взгляд (души) – вбок и вниз, полукругом. «Скажите, вам никогда не давали наркоз, не оперировали?» – почему-то очень волнуясь, спросил я и обнял, склонился к самому лицу. «Нет, – серьезно ответила, подумав. – Нет. Почему? Брррр! – зябко передернула плечами и неожиданно решила: – Пока время, надо брать от жизни всё». (Интересно: одинаковые исходные точки приводили нас к противоположным заключениям.) «Вот здесь моя квартира», – показал я. Она мельком взглянула. «Может, мы поднимемся наверх, посидим, отдохнем?» – сорвалось ненароком, и сердце, сладостно подхлестнутое, взыграло (а где-то глубоко, тоненьким ключом забило докучливое: «Господи, Господи, где же Ты?»)… «Нет, сударь, уж лучше не надо», – посмеиваясь, отклонила Николь. Вслед за мигом облегчения позорно-глупая настойчивость: «Нет, отчего, пожалуйста, я вам буду очень благодарен», – убого соблазнял я. О, если б она согласилась, я в последнюю минуту мог бы еще разминуться с роком! Но по тому же свирепому закону упрямства (иногда спасительного) меня здесь влекло к воронке. Обезоруженный, униженный, я стоял без шляпы, раздраженно глядя вслед отъезжающему красному «ситроэну». А через день она пришла одна. В этот час консьержка разносит почту: я растворил дверь с выражением лица – соответствующим. Николь – у порога, обновленная, с цветком в волосах, без шапочки, похудевшая, изнуренная жарою. «Можно? Я только хотела спросить…» Игра началась обжигающая, убийственная – уже в других условиях: я оказался в роли загонщика; она – робеющий подросток. Мгновение острого отупения, райского блаженства, плавления, пересмотра всего естества: агония любви. Не Николь, а всё, что есть в мире женственного, было со мною, и я харакирически растворялся в нем. А потом вязкость тысячелетий. «Вот за это ты умрешь, – донесся знакомый тихий голос свидетеля. – Вот за это тебе умирать». Откуда такая вера?.. Потому ли, что блаженство, столь неоспоримое, уравновешивает уже самую смерть, расписывается под нею: узаконивает… Я всегда интуитивно сторонился, не желал иметь в своей жизни ничего равноценного, возмещающего хоть приблизительно, покрывающего смерть! Это чувство раскаяния в зачаточном состоянии я испытывал уже, если в жаркий день глотал мороженое; нажравшись соленого, цедил пиво или, голодный, покупал еду, острую, вкусную. И не только плотские наслаждения, но и душевные – увлекательные книги, историческое заседание – порождали то же ощущение соблазна, зла, предательства. Помню, первокурсником (без денег, без сапог), отправляясь в лабораторию на практические занятия, я раз в трамвае был ошеломлен: из недр – такое торжество, предчувствие творческой радости, что завопил: «Я счастлив, счастлив…» – но тут же, словно в ответ, ужалили душу: печаль, страх, сожаление, опасность! Ибо все эти переживания, минуты удовлетворения, должно быть, нормировали смерть, делали ее приемлемою, рентабельной. А хотелось бы в последние секунды иметь право заявить протест, представить неоплаченный счет. (Только некоторые прогулки духовного порядка, особые мысли и молитвы, стояли в другом ряду.)