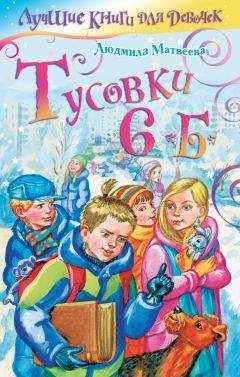Людмила Матвеева - Бабка Поля Московская
Вот начальник закончил свою речь, со смаком выпил, слегка подзакусил, полез целоваться с Пелагеей – а заодно уж и с ее дочерью, как-никак родной сестрой своего солиста – а потом поднял обе ладони вверх, призывая народ к тишине, и плавно взмахнул невесть откуда взявшейся, и впрямь как волшебной, – дирижерской палочкой.
И вот раскатами нежных, нарастающих звуков музыки и юных голосов, поначалу – почти речитативом, – началась дивная по красоте и простоте своей история про заглянувшего себе на беду раз по осени в партизанский виноградник и увидевшего там смуглую красавицу-модаванку влюбленного паренька…
Грянул мужской, отлично распевшийся, хор: запел дружно и звонко-едино про
– «Рас – куд – рявый клён зеленый, лист резной!» —
и не выдержали обе подружки закадычные, сидевшие через стол почти напротив друг друга Капа и Верочка – одновременно взглянув друг на дружку, молча, – и оттеснив слегка дирижера в угол кухни, – выскочили под огромное кухонное окно, и стали, как заправские две красавицы цыганки-молдаванки, плясать, – изгибаясь до земли и одними только плечами и грудями молодыми-налитыми поводя, – под звенящий соловьиный и нежный голос Коли, под разливы волшебницы-мандолины, под вздохи баянных мехов и серебряные переборы старой испанской гитары…
Затихла музыка – встали, как вкопанные, на фоне рамы высокого, темного уже с улицы, окна, протянув картинно друг к другу тонкие красивые руки, обе девушки – опустил легкие ладони дирижер – и громыхнула несмолкаемая овация!
Все гости задвигались, некоторые даже вскочили со своих мест за столом, закричали:
– «Би-и-с!!! Бра-во! Еще, еще!!!»
Потом заскандировали в едином порыве, все разом, продолжая громко хлопать в ладоши:
– «Про-сим! Про-сим!»
А дружок Вован, тихий Сопа, – вдруг нестерпимо оглушительно свистнул в две руки – четыре пальца, – как будто голубей гоняя во дворе, на своей хлипкой голубятне!
Мамаша-Авдеиха не могла его достать из-за «господского» своего стола, чтобы дать сынку как следует по мозгам, а посему и поручила это дело Машке Тыртовой, показывая молча жестами, что той надо предпринять.
Маша была всегда понятливая, поэтому исполнила задание с полной отдачей, – треснула Вову от души по лысой макушке, приговаривая при этом:
– «Хочешь, дурак, все деньги мамкины просвистеть, бестолочь!» – ну а заодно уж и Подоле своему по уху заехала – на всякий случай, – потому как тот собрался, было, подвиг со свистом пересвистать, уж и пальцы грязные в рот потащил – да вдруг отдернул, дубина, башку свою стоеросовую…
Что тут было говорить – пел дальше будущий военнослужащий Николай Степанович без останова все, чему выучили его в родном краснознаменном ансамбле за эти годы…
А народ все требовал еще и еще!
Вот тут уж встала с места Пелагея – и разливать начали наваристые щи.
А потом раздали всем – певцам и не певцам – горячую картошку с котлетами.
Затем объявили перекур.
– «С дремотой!» – провозгласил уже сильно пьяненький дядя Паша – и пошел – пошел «мелким хромом», как только откинули, наконец-то, перемычку-столешницу для выхода в коридор – к себе в комнату «отдохнуть маленько!», сопровождаемый грузной супругой, почти тащившей его на себе.
По дороге он поймал Колю и крепко его расцеловал:
– «В уста твои сахарные! За голос твой золотой!» – и опять зарыдал, уткнувшись мокрым лицом в тети Нинину обширную грудь.
– «Иди – иди, чудище!
Вот разревелся-то, дуралей!
За весь день слОва сказать не смог!
Коля, не надо! Не помогай, сыночек, сама я его дотащу до кровати – он же легкий стал, как пушинка, ссохся весь!» – приговаривала соседка тетя Нина, идя со своей ношей по узкому коридору.
* * *А потом, ближе к полночи, как уж догуляли, как замолкло радио, – оставили всех молодых ребят ночевать в комнате нового соседа-часовщика Ёськи Виндлера – так он сам себя просил их «зап-просто, а шо такэ?» называть.
Улеглись молодые мужики вповалку на полу, на расстеленных одеялах и матрасах, собранных со всей квартиры.
Погасили свет, перестали кряхтеть, сопеть и возиться, наступила тишина, кто-то сразу же захрапел – и Николай почувствовал, как в пространстве незнакомой этой соседской комнаты начала вдруг по-особому – и жутко – растворяться густая чуждая темнота.
Она уплотнялась с каждой секундой, но не в ней, не в осязаемой почти, как кусок шелка на лице, тяжелой этой темноте, а – прямо перед зажмуренными от пронзительного страха глазами, – вернее, в тончайшем промежутке замкнутого и близкого к бесконечному нулю, красным окрашенного, пространства между сомкнутыми веками и бешено крутящимися во тьме глазными яблоками – то есть, в глазах, но за веками, мигающими неестественно учащенно, точно в такт начинавшемуся задыханию, – возникла вдруг как живая – а может, впрямь и была живая – фигура сгорбленной в дугу тщедушной старухи в белых одеждах.
Старуха трясла головой, растопыривала над спиной тощие руки – как курица крылья, пытаясь не то взлететь, не то – поднять лицо, и, наверное, впериться глазами в того, кто так и не сумел заснуть, почуяв ее страшное присутствие в плотном воздухе.
Старая бабка эта не могла удержать на слабой шее голову прямо, она вертела ей в обе стороны и вниз, а из глаз шли синими конусами едва различимые лучи, шарившие по полу, по основанию стен, по углам и по пыльным плинтусам как морские прожектора по берегу в яркую лунную ночь.
Казалось, что свет больше никогда не проникнет в эту комнату за плотно занавешенные шторы, и что все спящие здесь вповалку больше не проснутся, а тот, кто сейчас бодрствует, будет этой старухиной тенью обнаружен – и…
В ночном гулком от пустоты коридоре раздался неожиданный до дикости телефонный трезвон – явный межгород, непрерывные звонки.
Кто-то из спящих на полу закашлял и привстал, нашаривая рукой обувь рядом с постелью, но не нашел и снова рухнул досыпать, заскрипев зубами и пристанывая.
Телефон надрывался в коридоре безрезультатно – и вдруг затих.
В это время старуха застыла на месте и тихо пропала, как будто вошла в некую невидимую – темнее темноты – дверь.
Николай пошевелиться не мог от ужаса, ледяной пот покрыл спину, и почти остановилось сердце.
Но вдруг стало ясно, что старухи больше нигде нет.
Николай вздохнул облегченно и тоже провалился в сон.
* * *Когда зазвенел будильник, пришла Пелагея и стала тихонько трогать сына, чтобы разбудить только его – и не потревожить остальных.
Коля сразу открыл глаза и спросил совсем не сонным, а каким-то усталым голосом:
– «Мам, что-нибудь случилось? Кому звонили-то всю ночь по телефону?»
– «Да никому не звонили – праздник ведь, напились, небось, и просто попали не туда!
Вставай, сынок, собирайся, чайку попей – и иди с Богом, ребята – музыканты твои – тебя проводят, сейчас уж они на кухне завтракают!
Мы с Веркой не пойдем – что там, на улице, мерзнуть? Долгие проводы – лишние слезы. И пальто у меня холодное.
А мне болеть, сынок, никак нельзя! Задолжала я всем почти, – ну да ничего, расплатимся потихоньку как-нибудь.
Ступай, ступай, сыночек, иди умывайся, вещмешок ведь у тебя давно собран – ты уж прости меня, не обижайся зря!»
– «Мам, да что ты, конечно, все правильно, нечего вам с сестрой туда идти, я вот когда приеду, устроюсь, все в письме опишу подробно!
И вот еще, мам, что: ты, прошу я тебя очень, продай по-тихому Вовкин вчерашний фотоаппарат, скажи, мол, Коля с собой его увез – никого не спросил. А ты, мам, себе пальто, пожалуйста, купи! Прошу тебя, пожалуйста!»
Полька молча залилась слезами, низко нагнув голову, – и не сказала ничего.
Ни да, ни нет.
И ушел Николай из дома, ни с кем, кроме матери не попрощавшись, даже сестру не разбудив – чмокнул только ее в нос, спящую…
С ним вышли еще трое провожатых, и он тихонько прикрыл за собой тяжелую дверь сонной своей квартиры – и так и не узнал, что звонили ночью как раз ему: от друга Витьки, аж с самой Камчатки, дежурный врач из военного госпиталя, сказать, что лежит парень у них при смерти вторые сутки – и просил он всех слезно об одном: позвонить домой в Москву другу – Николаю и сказать ему только эти три слова:
СЮДА НЕ НАДО!!!
А когда все вчерашние оставшиеся ночевать гости и некоторые соседи собрались поздним утром снова на кухне – доедать «остатки-сладки», чаи погонять, а то и опохмелиться – выяснилось, что бабушка-мадам Брандт этой ночью тихо преставилась…
Часть 21. Город не принял…
– «Вера, вот твой билет в Ленинград, на завтра, на вечер; и примерно в то же самое время, через вечер, послезавтра, ты уже будешь там, на Московском вокзале, – и я тебя встречу. Когда выйдешь из вагона, стой прямо на перроне, никуда не уходи, слышишь?» – хозяйским тоном, но с улыбкой, распоряжался курсант Николай Андреевич.
Вера слушала и не слышала – а просто любовалась им: такой он стоял перед ней ловкий, подтянутый – ни единой складочки лишней на форме, гладко выбритый, невероятно худой, немного еще – и был бы совсем не виден в профиль, а чуб свой длинный, косо уходящий на очень коротко подстриженную макушку, подбрасывал Николай то и дело, гордо вскидывая голову – ну как есть настоящая Белокурая Бестия.