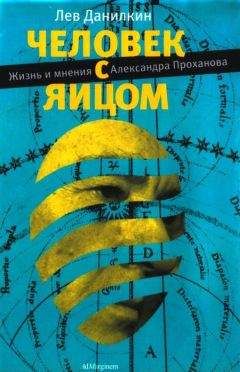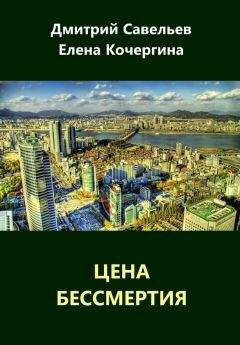Александр Товбин - Германтов и унижение Палладио
Если бы она не надела в день их подстроенной судьбой встречи полосатое платье?
В ресторане было тепло, уютно, но его лихорадило. Он безостановочно перебирал игровые причуды целеустремлённого случая: и булыжник привлёк вдруг её внимание, когда шла по набережной, и заказанное случаем полосатое платье было на ней в тот день встречи, и, между прочим, о «притонах Сан-Франциско» она, проснувшись наутро, совсем уж неожиданно, но, как выяснилось теперь, кстати заговорила. Германтову привиделось мутное зеркало с отбитым углом; а седой киновед потом, зимою – вспомнил – тоже как нельзя более кстати обнаружился во всей своей внушительной красе на банкете…
Ещё сегодня утром, стоя в Лувре перед «Сельским концертом», он и подумать бы не мог обо всём этом.
Когда вернулся в гостиницу, у него так дрожали руки, что он долго не попадал ключом в замочную скважину двери своего номера.
Он знал уже, что говорения Шумского об атмосфере и образах тревожной хичкоковской поэтики, собственное восприятие и атмосферы этой, и образов он опрокинет на картины Джорджоне.
Дрезден, «Спящая Венера».
Ну какая связь между пустым, без машин, мостом Золотые ворота и… такая, такая, – коснувшись взглядом «Спящей Венеры» он словно бы из беспокойных снов Мэделин заглянул в безлюдное сновидение Богини.
Так не бывает?
Изображение – немотивированное?
И всё это – правда.
Какому ещё художнику могло бы прийти в голову пышное ложе богини вынести на природу… Германтов, разминая мысли, приклеивал к холсту те же примитивные претензии, которые недальновидными критиками приклеивались поначалу к лентам Хичкока. Нет, художественные аналогии были куда глубже, их негоже было бы обосновывать поверхностным доказательством от противного.
Schiavone, Bordon, Palma Veccio, Tizian, Bassano… Всё у них на полотнах так, как бывает, всё в их сюжетах-композициях мотивировано и без подвохов, они достойно написали то, что от них ждали, то, что и было затем обозначено на табличках как сюжеты полотен, а Джорджоне совсем уж не такой, как удачливо-почтенные соседи его по залу дрезденской экспозиции.
Как выделялось всё-таки его полотно!
Но чем же, чем выделялось – дыханием волшебного, но чем-то тревожащего покоя?
Или, если попроще, выделялось тем, что Шумский называл «атмосферой»: не было у Schiavone – Bordon – Veccio – Tizian – Bassano атмосферы, а у Джорджоне – была!
Германтов чуть отошёл.
Очаровательны согнутая рука и лежащая на ней голова с закрытыми глазами… Текучая бестелесная телесность, а пастораль – видение…
Ещё отошёл.
Что же всё-таки написал Джорджоне?
Саму встревоженность, чудесно сгармонизированную встревоженность? Постоянную встревоженность, разлитую в воздухе?
Приблизился к холсту.
Что-то завораживающее, гипнотичное, как сон? Ну да, Джорджоне ведь писал не Венеру саму по себе, телесную и прекрасную, а таинственный сон её.
При том, что и сама-то Венера фантастично вмонтировалась в свой сон: Венера его, безмятежно-тревожный свой сон, порождает и в нём же – на роскошном ложе, вынесение которого на траву мотивировать смогла бы лишь причудливая образность сна, – зримо присутствует.
Джорджоне – предтеча сюрреалистов?
Плоско… А если это глубоко статичный и при этом – музыкальный, мелодичный какой-то сюрреализм?
Музыкальный сюрреализм как вкрадчивый инструмент тревоги?
Но… сюрреалистов влекли душераздирающие картины снов, а у Джорджоне сон – тревожный, но сладостный… как стиль Данте.
Сон модели-богини, немотивированно уснувшей на лугу, погружает тонкими, словно невидимыми сигналами – он пожалел, что не написал «пассами», – живописного гипноза в тревожный сон зрителя?
Впрочем, не уснувшей вчера или только что модели-богини, не способной почему-то проснуться через миг или час, а – спящей, постоянно спящей, как бы пребывающей в мифологическом сне; она, несомненно, дышит, поскольку жива, но – не может и шелохнуться, будто бы боясь разбить сон, как прозрачный хрупкий сосуд; в нескольких абзацах Германтов определял не физиологический, разумеется, но культурно-живописный статус этого дивного сна.
Хичкок считал, что зрительское напряжение по мере развёртывания киноленты должно нарастать. И на примерах из «Заворожённых» Германтов, вслед за Шумским, вскрывал мистическую механику нагнетания напряжения. Но как схожего «нагнетательного» эффекта достигал Джорджоне в статике холста-прямоугольника, да ещё при заведомой обездвиженности спящей на холсте Венеры? В гипнагогии всё видимое обретает двойную мотивировку – и жизненную, и фантастическую, у Хичкока игра мотивированного и немотивированного неожиданно толкает сюжет, но киносюжет ведь движется во времени, а в живописи сюжет остановлен а‑ля стоп-кадр, время никуда не течёт, линейное же время, устремлённое из прошлого в будущее, и вовсе внутри рамы отсутствует: живописное произведение для времени разве что служит своеобразным резервуаром.
Время… Тогда-то, в Дрезденской галерее, он и подумал: на холсте разные времена, коли самой статикой изображения лишены они протяжённости-длительности, переслаиваются или наслаиваются кистью одно на другое, как прозрачные лессировки? Этой духовно-технической идее, принципиально важной для жанровой природы станковой живописи как таковой, в книге своей Германтов отвёл целую главу, которую назвал: «Прозрачные времена».
Перелистнул несколько страниц:
Далее, далее… Переходя к языку живописи, он разбирал оттенки общей цветовой гаммы, отмечал плавный наклон тела Венеры и мягкость телесных дуг-контуров, удерживающих форму и задающих холсту «композиционный покой», сопоставлял матовое нагое тело с блеском изумительно выписанных складок смятой шёлковой мантии, на которой невесомо возлежала богиня, касался мощного тёмного лиственного массива за пурпурным бархатно-парчовым изголовьем Венеры и тонально-приглушённых, волнисто-плавных контуров ландшафта, окаймляющих окраины сна, явно контрастирующих по цвету и фактуре со складками шёлковой мантии на переднем плане, и о веточке, конечно, о веточке, графично выделяющейся на фоне облачного розовато-замутнённого неба. Далее он – по-своему виртуозно – выстраивал из отдельных изобразительных элементов композиции смелые хичкоковские аналогии, с их помощью предъявлял «инструментарий воздействия на первый взгляд», а уж затем медленно, внимая всем мелочам, улавливаемым зрением, опознавал «составы тревожащего очарования». «Мы не проникнем в тайну творения, – писал Германтов, – но тайну притяжения холста, ибо она непосредственно касается нас как зрителей и эмоционально не отпускает…»
Перелистнул ещё несколько страниц.
Венеция, «Гроза».
Уже на мосту Академии он был взволнован, и не оттого вовсе, что автоматически с моста глянул влево, на узорно-резные красно-палевые фасады дворцов вдоль дуги Большого канала, на белый телесный силуэт делла-Салуте. Нет, Венеции он будто бы и не видел – он предвкушал встречу с затейником-живописцем.
А войдя в зал номер 5, он, многократно в этом зале бывавший, будто бы увидев «Грозу» впервые, мысленно воскликнул: так не бывает!
И с минуту, наверное, нашёптывал себе: не бывает, не бывает, и ещё несколько минут напоминал себе, пока не сбился со счёту, издавна перебираемые искусствоведами логические несообразности маленькой великой картины.
Именно в несообразностях этих и зарождается трепет жизни?
Одушевляющие несообразности, они же – знаки немотивированности?
А как иначе, как его, внутренний трепет природы и человека, если не смутить глаз, можно было бы ещё передать?
Трепет – невидим; как невидим, к слову сказать, и сон, сам по себе сон, чудесный и конкретно выписанный, до веточки, сон, который довелось созерцать вчера, – в Венецию Германтов прилетел из Дрездена.
Общеизвестное ощущение: за каждым кадром Хичкока стоят какие-то силы. А за этим маленьким темноватым холстом – стоят?
Перед «Грозой» уже толпились экскурсанты-французы. Германтову мешало то, что он понимал их болтовню.
Отошёл, прохаживался, всё более, однако, возбуждаясь: раздразнивая вопросами разум свой, он, как мы не раз уже убеждались – это был ведь особый вопрошающе-зондирующий инструмент его восприятия, – словно шаманствовал, впадая в познавательный транс, а заодно расшатывал композиционную структуру картины, как если бы приводил её в первородное – аморфное – состояние, позволявшее ему заглядывать в замысел пятисотлетней давности…
Немотивированность изображённого как раздражитель воспринимающего сознания? И ключ, твердил он себе тогда, прохаживаясь по залу номер 5, ключ к обнаружению глубинной сути окутавшего формы картины трепета?
Далее Германтов пускался во все тяжкие, выписывая уже на холсте собственного сознания эфемерные колёсики, шестерёночки, рычажки многоуровневого художественного механизма немотивированности, в чьих недрах первородный трепет, которым наделил всё живое Бог, обретал предметно-зримое выражение и – в миг вспышки картинной молнии – выплёскивался на холст… Какой ещё механизм? Потом, при редактировании книги, он будет безжалостно вычёркивать свои заумные сухие соображения, но сейчас-то, сейчас так поучительно было их вспоминать!