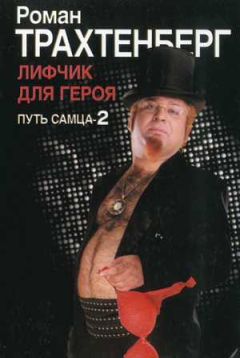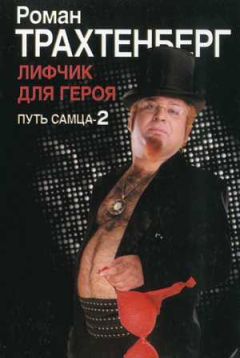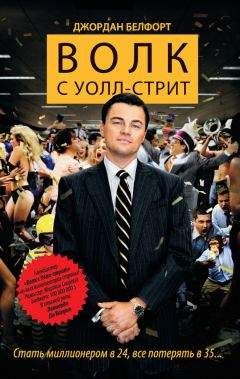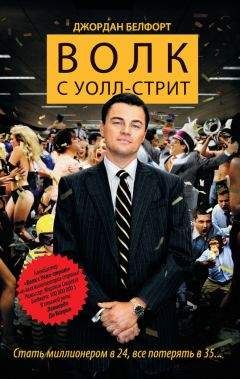Лев Трахтенберг - На нарах с Дядей Сэмом
Вместе со мной нас стала ровно дюжина.
Глава 14
Тюремный интернационал
«Дети разных народов, мы мечтою о мире живем!»[121] Это о моих новых друзьях-товарищах и обо мне.
Хотя, конечно, они и я мечтали не о мире во всем мире, а о собственной свободе. Еще – о вкусной еде, многочасовом сексе и сказочном богатстве. Совсем немного – о неминуемом возмездии врагам и новых планах на жизнь: легальных и не очень.
Моя 315 камера являла собой настоящий капиталистический интернационал – двенадцать разношерстных братьев-архаровцев.
Лук Франсуа Дюверне – бывший гаитянин, Марио Санчес из Мексики, Роберто Лопес и Кочетон из Колумбии, Чанчи из Доминиканской Республики, Сэл и Джонни – итальянцы из Нью-Джерси, Флако – коренной филадельфиец, Джуниор – чернокожий из Южного Бронкса, Блайнд – вашингтонская штучка, Уай Би – мой сосед по Бруклину и, наконец я, Лева Трахтенберг, – обладатель паспортов Соединенных Штатов и Российской Федерации.
Как семья является ячейкой общества, так и камера – ячейкой тюрьмы.
«Типические герои» в «типических ситуациях» американского «преступления и наказания».
Четверо испанцев из Латинской Америки, пять чернокожих и трое бледнолицых. С последними в нашей комнате был явный перебор, ибо по статистике Форта-Фикс в стандартной камере полагалось иметь только одного или половину белого зэка.
Семьдесят процентов моих соседей сидело за продажу наркотиков, один кадр – за финансовые махинации, пожилой итальянец торговал оружием, его юный компатриот – за содержание подпольного казино и, наконец, я – за «обман правительства США и преступный сговор с целью вымогательства».
С нашими сроками все тоже было в полном порядке и вполне «типически».
Четверых сокамерников приговорили к 15 годам и выше, троим влепили по десяточке, двое сели лет на 7–8, один – всего на два года. Мы с соседом получили по пятерке.
Я находился в районе между самым маленьким из больших сроков и самым большим из маленьких.
По официальной статистике Форта-Фикс средний зэк «мотал срок» семь лет. По-американски – мало, по-российски – много, а по-моему – бесполезно, ибо длинный срок только ожесточал человека.
По большому счету – горбатого исправляла только могила.
Среди зэков моей тюрьмы на путь праведный собиралось становиться процентов двадцать пять. Остальные планировали продолжать в том же духе и с новыми силами.
Каждому – свое…
…Войдя в новую камеру, я увидел одиннадцать пар глаз, направленных в мою сторону.
Все brothers[122] были в сборе и с любопытством разглядывали новичка.
Я с достоинством поздоровался с новым коллективом и протянул широкоплечему испанцу Марио пропуск на его койку. Как выяснилось – на одну из лучших в камере.
У окна.
Как и в карантине, на ПМЖ койки не «завоевывались», а назначались начальством.
Длинноволосый субъект громко выругался: «Коньо!»[123] – и бросил на пол книгу. Как выяснилось позже, мексиканец сидел в третий раз и был зол на «весь крещеный мир».
С Марио я разыграл сценку искреннего мужского раскаяния: вел себя искренне, просто и брутально.
Начал с обращений и фраз, никогда не употребляемых мной в обычной жизни: «Извини, старичок», или «Ты же знаешь, дружище, что это не моя вина», или «Спасибо, братан!»
В соответствии с подаваемыми репликами разводил руками и понимающе кивал.
Я всегда считал, что КПСС была права, придумав теорию «мирного сосуществования», ибо иметь плохого друга, безусловно, мудрее, чем хорошего врага.
Через полчаса, устроившись на новом месте и закончив отработанное представление новым соседям, я подводил предварительные итоги.
«One man show»[124] главного героя прошло более чем успешно – многоуважаемая публика даже улыбалась мне в ответ. Это первый плюс.
Зорро съехал с элитной койки почти без проблем, и никаких эксцессов при этом не возникло – второй плюс.
Нижние нары у окна совсем неплохо – третий.
Наличие в камере еще двух белых – уже четвертый плюс.
Соседство с музыкантом-гитаристом – бальзам на душу – пять с большим плюсом.
Учитывая все вместе взятое, получалось, что я заехал на зону вполне удачно, если не сказать больше. «Все-таки есть бог на свете и хотя бы минимальная справедливость на Земле!» – радовался я своей удаче.
– Русский, ты куришь? Пойдем, пообщаемся, – неожиданно прервал мои мысли чернокожий сосед справа.
Я сразу же согласился.
Мы вышли на перекур в соседнюю уборную, которая оказалась достаточно грязной и некомфортабельной. Место общего пользования в самом прямом смысле.
За курение в туалетах менты моментально давали «тикет»[125] – официальный штраф, предусматривающий обязательное, вплоть до карцера, наказание. Чувствовалось, что моего визави[126] это явно не смущало.
Лук Франсуа, 50-летний мулат с фигурой Арнольда Шварценеггера, музыкант и программист, бывший житель гаитянского Порт-о-Пренса и американского Чикаго, обладатель добрейшей улыбки и впечатляюще высокого IQ, говоривший на семи языках, солист местной рок-группы и некогда успешный бизнесмен, отец четырех детей и… наркоторговец со стажем не боялся никого и ничего.
Лук отсидел одиннадцать лет, еще четырнадцать маячило впереди, Несмотря на чудовищный срок, он сохранял тот самый пресловутый солнечный оптимизм и веру в лучшее – к нему тянулись все и вся.
Я не составил исключения – его харизма завлекла и меня. Он ответил тюремным теплом и взаимностью – мы подружились буквально с первых минут.
Лук и Лев вместе ходили в столовку, занимали друг другу всевозможные очереди, готовили общую еду, бегали по стадиону, занимались утренней физкультурой, слушали музыку, разминались в джиме, нелегально курили и, конечно, были в курсе всех домашних и личных дел друг друга.
На нашу дружбу с некоторым недоверием смотрели и белые, и черные, а сокамерники стали называть нас «Бэтмен и Робин».
Часто при виде Лука Франсуа Дюверне, его широкой негритянской улыбки и многочисленных косичек, спускающихся на железные плечи, я вспоминал одну дворовую песенку, услышанную мною в глубоком детстве: «На острове Гаити / Жил негр Титти-Митти, / Жил негр Титти-Митти / И попугай Нанэ!»
С детских пор и до моего приезда в Америку судьба Гаити меня особенно не интересовала. Знал что-то о «папе Доке»[127], президенте Аристиде и бесконечных переворотах на некогда гордом острове на Карибах.
Впервые «вживую» с выходцами из этой страны я столкнулся в 1994 году, работая «специалистом по трудоустройству» в одной из общественных организаций в соседнем Джерси-Сити.
Тогда Штаты предоставили политубежище нескольким тысячам гаитянских беженцев, добиравшимся до Флориды на плотах и разбитых вдребезги лодках. Чернокожих политэмигрантов газеты прозвали «люди из лодок»,[128] а в мою задачу входило их трудоустройство в благословенной Америке.
Помню, что гаитяне меня поразили.
Несмотря на то что многие из них попали в страну «в чем мать родила» и по-настоящему бежали от войны, от них исходила глубокая положительная энергия, в которой я с удовольствием купался.
Мне так понравились эти светло-коричневые люди, говорящие на «полуфранцузском» креольском языке, что я оставался с ними даже после работы, что на меня не похоже в принципе.
Теперь понятно, почему, как только я узнал про гаитянские корни Лука, в моем сердце ожило «все былое».
Мой чернокожий друг бескорыстно и по-доброму учил меня тюремному житью-бытью, местным порядкам и понятиям, правилам и обычаям. Я внимал и даже в чем-то пытался ему подражать. К тому же с ним я чувствовал себя достаточно защищенным – у местной братвы Лук пользовался безграничным авторитетом.
– Ты попал в очень хорошую комнату, Лев, – часто повторял мой новый друг во время перекуров и разговоров по душам. – У нас подобрались неплохие ребята – почти все как одна семья. Если будешь вести себя правильно, все и всегда будут на твоей стороне: помогут, чем смогут.
– Лук, что ты имеешь в виду? – пытался определить я свой modus vivendi[129] на ближайшие несколько лет.
– Этому не научишь, но с тобой вроде бы все ОК. Относись к людям с уважением и так, как бы ты хотел, чтобы относились к тебе, и все будет нормально, Русский! – сказал он, слегка грассируя по-французски английские слова.
– Да, да, понимаю, – подтвердил я, невольно погружаясь в ненужные рефлексии.
– Ты сам видишь, я делаю все, чтобы в камере было «one for all and all for one»[130], – произнес он знаменитую фразу д'Артаньяна по-английски.
Почему-то у артиста Боярского она звучала по-другому, как-то пошлее и мельче. Здесь, в тюрьме, девиз мушкетеров приобретал более глубокий смысл.
– Напротив тебя нары Марио, ну того мексиканца, которого ты уже успел назвать Зорро. Был тут недавно с ним один случай, который здорово сплотил нашу камеру.
– Что случилось? – спросил я, настраиваясь на рассказ и прикуривая очередную сигарету.