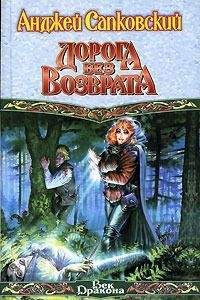Ирина Муравьева - Имя женщины – Ева
Зазвонил телефон, стоящий на столике в холле. Он машинально снял трубку. В трубке зазвенел смеющийся голос жены. Она попросила, чтобы он подъехал на угол Пятой авеню и Восемьдесят первой улицы, – почти напротив музея открылось новое кафе, и они с Джонни едят там мороженое, и жаль, что он дома. Хотелось бы вместе.
– Ты ведь, наверное, уже освободился? – весело спросила жена. – Ни за что не поверю, что в такой прекрасный день ты торчал в библиотеке!
– Я не был сегодня, – ответил он, с отвращением слыша свой неестественный и спокойно-дружелюбный голос. – Я дома работал.
– А я так и знала. Мы ждем тебя, милый, – сказала она.
Он аккуратно сложил письмо, от которого по-прежнему шло тепло, сразу почувствовав, как у него загорелся тот кусок тела, к которому оно прижалось сквозь карман легких летних брюк, пригладил волосы растопыренными пальцами, сел в машину и поехал на угол Пятой авеню и Восемьдесят первой улицы. Как он будет говорить с Эвелин, что она поймет, глядя на него? Фишбейну вдруг захотелось, чтобы все это разрешилось само собой: пусть она догадается, заподозрит и спросит его. Тогда он все скажет.
Эвелин кормила Джонни мороженым, они сидели на улице – часть столиков вынесли наружу, под тентами было не жарко, – и по ее темно-синей шляпе, по золотым волосам на шее прыгало солнце. Все было пятнистым: и скатерть, и стайка жадных воробьев, и бело-коричневый тент, выпукло напрягшийся от внезапно налетевшего теплого ветра. Джонни, опираясь обеими загорелыми руками о стол, стоял на коленках на стуле и широко, как птенец, разевал рот, в который Эвелин аккуратно вставляла ложечку с розовым, быстро тающим возвышением.
Она первой увидела Фишбейна и, радостно улыбнувшись, приподнялась ему навстречу. Он подошел, и Эвелин порывисто подставила ему щеку, далеко отведя в сторону руку с мороженым. Он поцеловал ее, вдохнул в себя запах духов и нахмурился.
– Ты что, огорчен чем-то, Герберт? – спросила она.
– С чего ты взяла?
– Значит, мне показалось. Клубничное будешь?
– Я буду клубничное, – ответил он, чувствуя, что внутри уже работает привычный механизм защиты. – Ты тоже клубничное ешь? Тебе нравится? – И быстро взял Джонни себе на колени.
– А знаешь? – сказала жена. – Он начал скучать по тебе. Он взрослеет.
Ему показалось, что Эвелин произнесла это не случайно и сознательно нажала на болевую точку. Как ни тянуло его к Еве, но даже сейчас, когда перевернутый ее письмом, весь в мыслях о ней, он поцеловал Джонни в затылок, подул на его легкие, такие же как у Эвелин, золотистые волосы, кровь прилила к его лицу, и он поспешно зарылся в эти золотистые волосы, спрятал в них глаза и губы, потому что нужно было выбирать между любовью и ребенком, и на секунду возникло такое чувство, словно в руки ему дали топор, велели проломить кому-то из двоих череп.
А там, в Ленинграде, глубокая ночь. Фишбейн представил себе мрачный, погруженный во тьму величественный город, пронизанный тенями разной длины, с его свежо пахнущей сонной рекой, обморочно спящими дворцами, с огромной чужой ему жизнью, забившейся во все щели. Он понимал, что связь с этой жизнью разорвана, и даже если ему посчастливиться вновь попасть туда, она, издалека равнодушная к нему и почти призрачная, отвердеет, словно бетон, как только он сделает попытку выловить из ее глубины одно-единственное необходимое ему существо – женщину.
Принесли мороженое. Он быстро съел, не почувствовав вкуса. Зубы заныли от холода. Дома он сказал, что хочет спать, пошел к себе в спальню и лег.
Через полчаса постучалась жена. Она была в коротком черном платье, лицо серебристо и нежно напудрено.
– У нас с тобой билеты на «Вестсайдскую историю», – сказала жена. – Джонни останется с – няней.
Больше всего хотелось побыть одному и думать, и думать, и думать, как быть. Иногда мелькало странное ощущение: если забыть обо всем остальном и целиком погрузиться в заботу о том, что нужно скорее проникнуть в Россию, догадка, как это устроить, внезапно вдруг вспыхнет сама, подобно зарнице на небе. Он хотел сказать Эвелин, что смертельно устал за день, но понял, что она уже нарядилась для выхода и, если он откажется, наверное, обидится. Значит, выбора не остается: сегодня театр. А сын его Джонни останется с няней. Вот так все и будет.
На Таймс-сквер было, как всегда, полным-полно народу, небо переливалось от звезд, которые стремились доказать маленьким и суетливым людям далеко внизу, что свет их намного светлее, пышнее, чем свет человеческой иллюминации, всегда кем-то сделанной, кем-то зажженной. Мало кто, однако, удостаивал небесные огни своим вниманием. На Таймс-сквер кипела жизнь, которую было странно даже представить себе замедлившейся или, не дай бог, остановившейся. С двух сторон к освещенным подъездам театров подъезжали машины, из которых выпрыгивали женщины с голыми плечами и выпуклыми коленями, их кукольные ресницы скользили по круглым щекам, подлетали к высоким бровям, зрачки их сужались и вновь расширялись, и все эти женщины были готовы к тому, чтобы жить здесь, на этой земле, крикливо, и весело, и бесконечно. Мужчины, чья энергия всегда проигрывает по сравнению с женской, вели себя тише. От женского вида, от этих ресниц, коленей, плечей их, нормальный мужчина сжимается в жгучем желании, и многие страшатся в себе этих яростных чувств, весьма первобытных, нецивилизованных, поэтому только кривая усмешка, немного всегда не по делу, не к месту, слегка выдает их звериную силу. Конечно, в саду этих диких цветений, наполненном острым инстинктом, заботой и страхом, конечно, – ох страхом! – конечно, старухам и их старикам, приехавшим также на праздник, хотелось забыть о своих дребезжащих суставах, своих сизых венах и впалой груди, поэтому старцы, готовясь к отплытью туда, где мигают счастливые звезды, старались и двигаться как-то живее, и даже смотреть молодецки, как будто они, в своих платьях, костюмах и бусах, желают быть тоже цветами, корнями, вцепляться колючками, ждать жирных пчел.
Двигаясь внутри этой разгоряченной толпы вслед за нежно-золотистым затылком Эвелин, к форме и цвету которого он привык настолько, что уже не замечал их изящной красоты, Фишбейн невольно восстанавливал в памяти то, как совсем недавно они с Евой шли по улице Горького, на которой гремел фестиваль, и тоже огни были, лица, гудки… И как он был счастлив. За что же нам всем наказание такое? Что значит, черт вас побери, быть счастливым? Состав, что ли, крови меняется в теле, а может быть, слепнет душа, забывает и голод, и холод, и грязь, и испуг, одно остается в ее детской памяти: какие-то травы, какие-то звуки, какие-то теплые капли дождя, упавшие с неба на серые крылышки… Стучит в тебе – и не поймешь даже где, как будто ты – лес, и тебя кто-то рубит, а ты поддаешься, ты весь замираешь, и птицы твои вылетают из гнезд, и солнце тебя заливает, и только бы осталось все так, как сейчас, не менялось бы…
Когда актер с таким белым широким пробором в приклеенных черных волосах, что за этим пробором следили не только первые ряды партера, но и вся галерка, взяв за руку стройную, с круглыми бедрами актрису, у которой было глубокое декольте, красные чулки и туфли, почти как у девочки-школьницы, запел вместе с нею известную песню, ему стали вдруг подпевать и с галерки, и с первых рядов, и с последних рядов, и эта наивная песенка вызвала у Эвелин слезы.
Сделай из двух наших рук одну,
И общее сердце из двух сложи…
Эвелин закрыла глаза.
Сделай из двух наших жизней одну
День изо дня, из минуты в минуту…
Пока мы живем, пока смерть не пришла…
Эвелин вытерла ладонью слезы и мокрой рукой сжала его руку. Он искоса посмотрел на нее и осторожно высвободил пальцы, улыбкой давая понять, что зря она плачет на публике. Но плакали многие. И руки, которые люди сжимали, порой были старыми, с толстыми пальцами. Сплетаясь, они помогали друг другу стать крепче, живучей, слияние рук дарило иллюзию, что не напрасно дана была жизнь, и вот если в театр, к примеру, ворвутся бандиты, с глазами, горящими от нетерпения и злобы, то выживет тот, кто любим и кто любит, а вовсе не тот, кто сидит равнодушно и пялит на сцену сухие глаза.
Жена держала его за руку, он чувствовал прикосновение ее обручального кольца к своему и думал о Еве. Под влиянием музыки и простодушных слов этой песни в нем поднимался гул, похожий на гул огня в печи или ливня за окнами дома. Он знал по себе, что уж если придется ему разлучиться когда-нибудь с Евой, то смерть непременно вмешается в это, куда-нибудь уж проскользнет, просочится, – без всякой косы, без скелета, без черепа, – а буднично, неторопливо и нагло. Разные, надо сказать, мысли приходили в голову Фишбейна во время этого спектакля. Иногда он словно бы смотрел на себя со стороны и удивлялся, как это случилось, что он, взрослый человек, прошедший войну, хлебнувший всякого, и в том числе грубой продажной любви, отбившей в нем всякую сентиментальность, как это случилось, что, будучи в общем удачно женатым, привязанным к дому, жене и ребенку, он вдруг умудрился влюбиться так сильно, что все остальное не только тускнеет – и с каждой минутой все больше и больше, – а словно уходит под воду, как части разбитого судна.