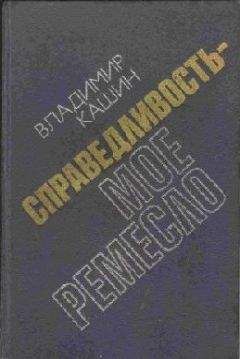Екатерина Марголис - Следы на воде
В церкви Сан-Видаль, за углом от нашего дома, обыкновенно играют Вивальди. Это туристические концерты, на которые ежевечерне выстраивается длинный хвост из немцев, американцев, французов и наших соотечественников. Но сегодня толпа была иной.
Я, конечно, бежала. И конечно, опаздывала. Так получилось, что в эти дни в Венеции проездом или на несколько дней оказалось несколько друзей, каждому из которых хотелось уделить время. И все же небольшая толпа венецианцев у входа в церковь заставила меня замедлить резвый бег. Я посмотрела на афишу. Не может быть! Прямо сейчас тут, возле дома, выступление моего любимого теолога и писателя Вито Манкузо. Его последняя книга «Диалоги с кардиналом Мартини» уже раскуплена. Предыдущие две «Io e Dio» («Я и Бог») и «Obbedienza e libertà» («Послушание и свобода») я не читала. Но самая первая «Anima e il suo destino» («Душа и ее судьба») произвела оглушительное впечатление. Чем-то таким незамутненным, каковым бывает только то новое, что повторяется вечно, но увидено каждый раз впервые. Первый снег. Первый крокус в саду. Первые шаги ребенка.
Когда б мы досмотрели до конца
Один лишь миг всей пристальностью взгляда,
То нам другого было бы не надо,
И свет вовек бы не сходил с лица.
Таков Вито Манкузо. Да, при всей левизне, с одной стороны, и берлусконизме – с другой, Италия не потерянная страна. Книга с названием «Душа и ее судьба» моментально стала бестселлером. Сотни тысяч экземпляров. Сегодня, спустя четыре года после ее выхода, Манкузо, профессор кафедры теологии в Падуе, ведущий колумнист в «La Repubblica». Его знают все. В конце той первой книги Манкузо писал, что не любит говорить в никуда. И давал свой имейл всем, кто захочет написать ему. Не скрою, я написала сразу. И тогда же сразу получила краткий, но живой и личный ответ. Он и оказался таким. Молодым, улыбчивым, ярким. Той яркостью, которая не любуется собой в лучах собственных софитов, а разлетается вокруг радужными брызгами, невольно заражая каждого своего видимого и невидимого собеседника жаждой подлинности.
Сегодня в Сан-Видал он открывал серию лекций на тему «Sette opere di Misericordia».
Всякий итальянец среднего возраста возпроизведет этот список без запинки. Католическая церковь перечисляет семь деяний милосердия (шесть из Евангелия и последнее из Ветхого Завета):
1. Накормить голодного;
2. Напоить жаждущего;
3. Дать приют страннику;
4. Одеть нагого;
5. Посетить больного;
6. Посетить заключенного в темнице;
7. Похоронить мертвого.
Воскресная школа (catechismo) оставляет твердый отпечаток в католических мозгах, вне зависимости от веры. И, к счастью, не только в мозгах. Италия потому и не потерянная страна, что это проращено, хотя бы на уровне слов, почти в каждой итальянской душе. Разговор о делах милосердия и блаженствах Вито Манкузо и начал с разговора о словах. Орто-доксия vs. orto-prassi. Правильно учить или праведно жить. Атеист от верующего отличается мало. Если вспомнить Канта и три его вопроса:
– Что я могу познать?
– Что я могу совершить?
– И в чем я полагаю свою надежду?
Отличие если и есть (а наш теолог в этом не уверен), то только в последнем пункте. Познание же и поступки универсальны и всечеловечны. Манкузо бы даже переформулировал последний кантовский пункт так: «С кем я связываю свое одиночество». Точнее: «С кем я, когда я один». Это и есть вопрос о любви и вере.
Об этом Блаженный Августин: «Что же, любя Тебя, люблю я? <…> я люблю некий свет и некий голос, некий аромат и некую пищу, и некие объятия – когда люблю Бога моего; это свет, голос, аромат, пища, объятия внутреннего моего человека – там, где душе моей сияет свет, который не ограничен пространством, где звучит голос, который время не заставит умолкнуть, где разлит аромат, который не развеет ветром, где пища не теряет вкуса при сытости, где объятия не размыкаются от пресыщения. Вот что люблю я, любя Бога моего»47.
Манкузо ведет свою речь знакомыми тропами, но так, словно все это впервые. За ним хочется идти с любознательностью ребенка, прыгая по камушкам. И, начав путь, совершенно не знаешь, куда он приведет. Он начал с Конфуция, потом легко, как по бамбуковым мосткам, добежал до Ганди, и, не успела я глазом моргнуть, как из-за колонны навстречу нам уже шагнул застегнутый на все пуговицы кембриджской белой рубашки несравненный Витгенштейн с «Логико-философским трактатом»: «6.41. Смысл мира должен лежать вне его. <…> 6.521. Решение проблемы жизни состоит в исчезновении этой проблемы»48. (Не это ли причина того, что люди, которым после долгих сомнений стал ясным смысл жизни, не могут сказать, в чем этот смысл состоит.)
Вито Манкузо счастливо улыбнулся, потом посерьезнел и вспомнил дневник голландской еврейской девушки Этти Хиллесум, добровольно переставшей прятаться и погибшей в концлагере:
«Я нахожу жизнь прекрасной и чувствую себя свободной. Во мне, как и надо мной, простираются небеса. Я верю в Бога и в людей и рискую говорить об этом без ложной стыдливости. Жизнь трудна, но не страшна. Нам нужно научиться воспринимать всерьез серьезную часть нас самих. Остальное придет само: и „работать над собой“ это вовсе не болезненная форма индивидуализма <…> Я могу продолжать говорить об этом на протяжении множества страниц. Тот кусочек вечности, что мы несем в себе, может быть выражен что в одном слове, что в десяти томах. Я счастливый человек и возношу хвалу этой жизни, да, именно хвалу, в год Господень 1942-й, энный год войны».
В год Господень 2013-й Вито выдохнул в зал эту цитату прямо из юных уст 1942-го, и, легко ступая по водам, мы перешли к Нагорной проповеди и закончили блаженствами. Это был один поток жизни простых слов, улыбок, казалось бы, знакомых цитат, каких-то мелодий, арпеджио и легато, которые вели в самые неожиданные места. Ни грамма сухого академизма и догматизма, но и без упрощения и уплощения. Никакой сентиментальности, никаких дешевых уловок, никакого душевного комфорта, никаких красивых слов ради слов.
Пересказывать бессмысленно, хотя, мне кажется, жизненно необходимо перевести его книги на русский. Под самый конец Вито говорил о древнееги-петской Книге Мертвых (как известно, никакой книги как таковой нет – это не что иное, как соединенные воедино разные тексты, свод папирусов с загробными текстами). «Такие сверточки, свитки, где мелко-мелко написано то, что нужно сказать после переправы в иной мир, что-то вроде шпаргалок, что мы писали в лицее и прятали за обшлага, – смеясь, сказал Манкузо. – Чтоб в ответственный момент не забыть, что надо сказать».
Вот, что написано на одном из них: «Я накормил голодного, одел нищего, посетил больного и дал лодку тому, у кого ее не было».
– Это вместо «похоронить мертвого». Нам в христианстве не хватает лодки, – заключил лектор.
Венецианцы зааплодировали. Я снова вспомнила утренний трагетто.
Лекция закончилась. Не выдержала и подошла поблагодарить. Решилась подарить каталог последней выставки, который лежал в сумке совершенно для других целей. Это был последний мой экземпляр, но было ясно, кому он предназначен.
– Вы, конечно, при ваших тысячах читателей и сотнях откликов не помните, но…
Он помнил все. Как меня зовут, откуда я и чем занимаюсь. Как отец Георгий, который помнил в лицо и по имени каждого, кого хоть раз увидел.
«Когда б мы досмотрели до конца…»
На рынке Риальто в субботу сутолочно и ярко. Как эти первые дни весны. Крутые бока апельсинов, плоть помидоров, чешуя артишоков, серебристая россыпь рыб. Ну и цветы. Я заприметила этот букет сразу: анемоны – разноцветные маки. Мне захотелось немедленно купить их и отнести Ксюше, которая сидела дома над уравнениями парабол. Восемнадцатая весна моей старшей дочери. Пусть она будет такой: всеми цветами, запахами, красками. И да, параболы тоже подойдут. Траектория полета тела с ускорением. Точка замирания в вершине. Момент вечности. Ну и потом, по-итальянски «parabola» – притча. Так, собственно, и называлась та выставка, каталог которой я осмелилась подарить Вито Манкузо.
В ведрах старушки-цветочницы на рынке Риальто полно разных цветов, но разноцветных маков, которые, видимо, приглянулись не только мне, осталось ровно два букета. Ничего. Мне достанутся. Передо мной в очереди только усатый синьор в потертой тужурке. Даже если из всех цветов он выберет предпоследний букет маков, последний все рано мой. Усатый уверенно протянул руку… и взял оба букета.
– 7 euro, – радостно протараторила старушка и побежала заворачивать букеты в вощеную бумагу. Синьор достал кошелек. И тут что-то заставило его оглянуться. Кажется, я стояла очень тихо. Не пыхтела и не вздыхала. Вероятно, просто мое разочарование было так велико, что долетело до него со спины, коснулось его затылка, и он обернулся. Обернулся и прочел все в моих глазах.
– Signora voleva quel mazzo?49
Я не успела даже ответить, как он повернулся к старушке и попросил завернуть каждый букет отдельно. Ему и, вот, синьоре, что позади него.