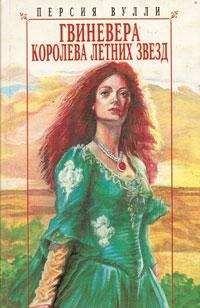Виктория Токарева - Немножко иностранка (сборник)
– Долго перечислять, – перебил Александр. – В Израиле выпустили книгу «Знай наших». Там они все…
Дело происходило на Украине. Моя бабушка Ульяна собиралась на ярмарку, а семилетняя мама плакала и упрашивала:
– Возьми меня на ярмарку, я тоже хочу на ярмарку.
– Та шо ты там не бачила? Там ничого такого немае. Жиды торгуют, та и всэ.
– Я хочу жидов побачить, – ныла мама.
– Та шо их бачить? Такие ж люди…
Через десять лет моя мама вышла замуж за еврея по имени Муля и родила от него двух дочерей: меня и сестру.
В хорошие минуты Муля говорил: «Тася, у нас будут талантливые дети».
Слияние двух культур в одном человеке дает потрясающий результат: Окуджава (армянская и грузинская), Сергей Довлатов (еврейская и армянская), Алексей Герман, Андрей Тарковский, Высоцкий.
Дальше можно не перечислять, понятно, что я имею в виду.
Владимир Любаров. Еврейская бабушка Соня (библейская красавица) плюс русская мама, тоже красавица.
В России всегда был государственный антисемитизм. При царе – черта оседлости и погромы. При Сталине – затевалось «дело врачей». Это было начало большого погрома, но Сталин умер, слава богу. Однако антисемитизм стоял, как пар над кастрюлей. Дина Рубина пишет: «Все стеснялись своего еврейства, как застарелого триппера». Прятали как могли. Меняли отчества, меняли национальность (как правило, на украинскую).
Владимир Любаров не прячет свою вторую кровь, просто констатирует факт: да, так. Без оценки.
Но все-таки скорее – хорошо. Глубоко. Весело. Это я. Это моя часть, моя культура.
Любаров пишет циклы «Еврейское счастье» и «Местечко».
Его евреи с откровенно семитскими чертами, с «жидовскими рожами». Но как любит… Сколько тепла, иронии, родства. На картине «Семья» у него даже корова еврейка, тот же затуманенный взгляд. И им всем очень хорошо вместе: жене, которая доит, мужу, который ест пирожок, и корове.
Семья – вот главная ценность еврея. Семья и вера. Еврейская женщина восходит к Богу через мужа. Для нее семья – святое.
Исаак Башевис-Зингер получил Нобелевскую премию за свои книги, написанные на идиш. У него то же местечко, что у Любарова. Те же евреи, те же ценности.
Меня поразила картина «Поющие». Стоят пять уродцев с большими плоскими лицами и ртами, разинутыми в форме «о». Но они поют!!! Я не только вижу, я слышу. Воздух вокруг них дрожит. Они поют слаженно и прекрасно. Как это можно нарисовать? Это надо чтобы твоей рукой водил Создатель.
Еврейские женщины, равно как бабы из Перемилово, – толстые, белые, молодые и желанные. Чувствуется, что Любаров их любит и вожделеет. Красота не имеет национальности. Они ему нравятся. И мне нравятся. Они прекрасны – чисты и наивны. А гламурные худые в сравнении с ними – помойка. Вот что делает Любаров своей кистью. И на деревенских из Перемилово, и на евреев из местечка хочется смотреть, смотреть, смотреть, и хочется заплакать «от любви и печали». Вот что делает Любаров.
Особой статьей идут его комментарии. Это короткие рассказы в стиле Довлатова. Это литература.
Сам Любаров так не считает. Он думает, что это просто так, литературные зарисовки. Я считаю по-другому. Это – именно литература, в том же стиле, что и живопись.
Любаров смотрит на мир так, будто ему протерли глаза. Как будто только ему дана возможность переоткрыть природу и суть людей.
У Довлатова есть рассказ, не помню его названия. В рассказе жена утром дает Довлатову рубль и посылает за постным маслом. Он возвращается ночью, без денег, без масла, с синяком под глазом. Жена спрашивает:
– Чем это тебя?
– Ботинком.
– А ты что, валялся на земле?
– А почему бы и нет…
Смешно? Смешно. Страшно? Страшно.
Примерно то же самое в рассказе Любарова «Коля и Надя» – про своих соседей.
Надя – алкашка, при этом Любаров никогда ее так не называет. Он деликатно замечает, что «выпивать в любых дозах здоровье вполне еще позволяло. Надя… наводила марафет, взбивала парадным коком свою химическую завивку и алой помадой красила губы… Приняв на грудь, Надя всем игриво подмигивала, намекая, вероятно, что она – женщина с богатым прошлым».
Смешно? Смешно. Страшно? Страшно.
А кончили они «неважнецки». Дом их сгорел. Коля надорвался и умер. Надя в подпитии замерзла. Но на пепелище их сгоревшего дома вырос на редкость густой орешник, так что новые дачники Перемилово и предположить не могут, что всего несколько лет назад здесь стоял дом, а в доме обитали люди по фамилии Малышевы.
Грустно? Грустно. Светло? Светло.
Владимир Любаров не делает дистанции между соседями и собой, хотя они – алкаши, а он – гениальный художник.
Любаров всех объединяет в своей душе – русских и евреев, алкашей и гениев. И в самом деле: каждого человека есть за что пожалеть и есть за что полюбить.
Для еврея важная составляющая его жизни: вера. Евреи свято соблюдают религиозные праздники. Каждую неделю они празднуют Субботу. В чем смысл этого праздника, я точно не знаю. Но у меня есть своя версия: однообразное течение жизни должно прерываться праздником. Тогда легче жить. День идет за днем, падает на темя, как капля воды. Можно взбеситься. Но впереди – Суббота. Праздник. Можно и даже нужно ничего не делать.
В картинах «Адам и Ева» и «Субботний день» одни и те же персонажи. Разрешенное безделье, как в раю. Они не просто бездельничают, они живут по правилам Священного Писания.
Любаровские евреи постоянно ищут смысл жизни: холст «Голуби», «Кошерное или трефное», – поскольку искать смысл во всем – это национальная черта евреев. В данном случае они, видимо, размышляют, правильно ли зарезана курица, поскольку курица должна быть непременно кошерной.
Казалось бы, какая разница: как зарезали курицу? Кто это видит? И тем не менее именно благодаря вере евреи выстояли и сохранились, несмотря на вековые гонения, на холокост.
Древние греки и нынешние греки – это совершенно разные биологические особи, у них даже разное строение черепа. А евреи – какие были, такие и остались. Причина? Вера. В Иерусалиме есть целые кварталы верующих евреев, которые только тем и занимаются, что изучают саму Тору и комментарии к ней. Глубочайшее проникновение в истоки, в святая святых.
Любаровские персонажи свято соблюдают все свои праздники: Песах (грызут мацу), Суккот (плетут халы), Шаббат (пьют шаббатное вино).
Московские евреи Тору не читают – это «потерянные дети», как говорит Дина Рубина. Но когда человек трудится не покладая рук, когда он хорошо делает свое дело – это тоже, мне кажется, приобщение к Торе и к высокой вере.
Можно молиться перед Стеной Плача, качаясь, а можно взять холст и краски, «настроить на любовь свое сердце» и почувствовать Бога.
Творчество Любарова – это его молитва, его покаяние и его очищение.
Хочется, чтобы такие художники, как Владимир Любаров, жили всегда. Они просветляют жизнь, и за это им полагается дополнительный талон.
Мой портрет
Я познакомилась с Анатолием Зверевым тридцать лет назад. Познакомила нас Полина Лобачевская.
Сначала несколько слов о Полине. Это была сверкающая красавица. Гений чистой красоты. Из тех времен, в которых жил Александр Сергеевич. Как будто взяли книгу судеб, перелистали обратно, открыли в начале XIX века – и Полина сошла со страниц. Она – оттуда. И это заметно: неторопливая дворянская речь, низковатый голос, благородная сдержанность. Никакого мельтешения, никакой суеты.
Полина преподавала во ВГИКе, готовила будущих режиссеров. У нее был глаз-ватерпас. Умела разглядеть талант там, где его практически не было заметно. Полина – золотоискатель, находила самородок в самой неподходящей почве.
Так она разглядела Анатолия Зверева.
Мы познакомились. Внешне Анатолий – бомж средних лет. Запущенный, некрасивый, в сандалиях на босу ногу. Хорошо, что было лето.
Многие понимали, что Зверев – гений. Как Нико Пиросмани. И такой же неприкаянный. Он был как большой ребенок, не умел о себе позаботиться. Это делала Полина. Она дала ему крышу над головой, еду, одежду.
Зверев жил на природе и писал эту природу. Писал как никто.
Мы познакомились, он сказал:
– Давай я нарисую твой портрет. Купи только краски и кисточку.
За работу он денег не брал. Писал как дышал и не считал нужным брать деньги за воздух, которым дышишь.
Анатолий набросал мой портрет минут за сорок. Я посмотрела. Меня смутил несправедливый второй подбородок. Я сказала:
– Что ты мне нарисовал байду, как у баснописца Крылова?
– Сейчас не будет, – согласился художник и ловко заштриховал лишнее простым карандашом.
Мой портрет висит в моем доме. Глаза как будто набиты слезами. Это был непростой период в моей жизни. Я его скрывала, но Зверев просек своей интуицией.
Однажды он закончил при мне пейзаж: кусок леса. Прозрачные березы, тяжелые лапы елей. Далее Анатолий насыпал в ладонь крупу геркулес и размашистым жестом кинул на свежую картину. Крапинки геркулеса прилипли к краске. И произошло нечто. Геркулес перестал быть крупой. Картина ожила. Дело, конечно, не в геркулесе, а в том свете, которым пронизаны деревья.