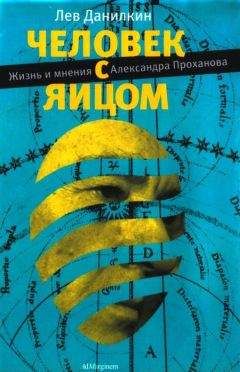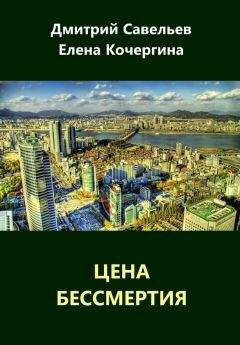Александр Товбин - Германтов и унижение Палладио
Знал!
Вспоминая сейчас с удивлявшими его самого подробностями прогулки и беседы с Верой, он ведь намеренно тянул время, прибегая к неуклюжей попытке обмануть самого себя, – оттягивал момент, когда придётся вспомнить самое неприятное.
И чем дольше длились эти уклончивые воспоминания, тем лаконичнее, точнее – короче, должен был бы быть их итог.
Был влюблён, и синие огоньки вспыхивали в глазах. И он мог бы, вполне мог бы, сжать её вспотевшую от волнения ладошку в своей ладони и повести… и она бы радостно покорилась, пошла бы за ним, так как, чувствовал он, давно ждала этого момента… мог бы, сочетая твёрдость и нежность, повести за собой, а думал тогда о сходстве Веры и мамы, смотрел на линию пробора в гладких блестящих её волосах, и одновременно, – бывает ли так? – думал о Лиде, которую не мог уже несколько лет забыть…
И видел он скучненький залец ресторана «Сокол» с окном на лётное поле… ему вновь привиделся даже, как когда-то во сне, он сам, несостоятельный жених, выпрыгивающий в окно, бегущий панически к самолёту.
И он думал – были ведь женщины, которых он больше никогда не увидит, а воспоминия о них, случайно посещая, не отзовутся болью, промелькнут лишь, как не раз бывало, «натюрморты любви»: свисающие со спинки стула складки зелёной юбки Сабины, бусы на подзеркальнике, локоть в зеркале и мокрый скат крыши, заваленной жёлтыми кленовыми листьями; или – край стёганого одеяла, атласный алый халат Инны, брошенный в кресло… вспоминая ненароком былых возлюбленных, он бессознательно претворял физическое и этическое в эстетическое, листал не без приятности репродукции интерьерных натюрмортов, а Лида-то вспоминалась ему с неизменной болью. А теперь вот ещё и Вера? Одна любовь, новая, не могла излечить от другой, разделённой, но необъяснимо им самим прерванной, с тех пор так и не утолённой? Плюшевые шапки сосен разбухли, редкие лиственные деревья давно оголились, – промозглым, холодным днём вдоль глухо рокочущего серо-коричневого залива брели по мокрому песку из Комарова в Репино и негде было согреться, все забегаловки были заколочены на зиму; потом, вернувшись, выпив где-то у Финляндского вокзала плохого кофе, допоздна бродили по городу под дождём, «густая слякоть клейковиной полощет улиц колею: к виновному прилип невинный, и день, и дождь, и даль в клею…» – сколько стихотворений успела Вера ему прочесть, а всё не решался он её взять за руку, повести к себе на Ординарную улицу; куда там. Он никогда прежде не боялся женщин, не трепетал без меры, не терял естественности и уверенности в себе, а теперь? – ум Германтова, осторожничая, осушал все приливы чувственности.
Короче.
Вера написала ему письмо, а когда он его получил, – удивлённо повертел перед глазами конверт и даже понюхал, не надушен ли? – зазвенел телефон.
– Я хотела всё, что накопилось, сказать, но струсила и написала письмо… я вам пишу, чего уж боле, что я могу ещё сказать, – хотел было всё обратить в шутку Германтов, но почувствовал, что такая шутка получилась бы до нелепости плоской, смолчал. – А теперь я струсила ещё больше и прошу, настоятельно прошу, мне вернуть…
– Я его ещё не успел распечатать, – словно оправдываясь, молвил Германтов; он был растерян, – настоятельно?
Назавтра он вернул ей её письмо.
В письме было, наверное, признание в любви, а он… но в письменном объяснении в любви, – подумал, – всегда содержится приговор любви.
Она написала, – она же и виновата?
Или всё же был виноват он, не нашедший простых главных слов? История повторялась? – он, речистый такой, при своём-то словарном запасе, ведь главных слов до этого и для Лиды не смог найти.
Ещё короче.
Назавтра же, когда он вернул ей её письмо, они остановились на углу Съезжинской, летел мелкий колкий снег, и Вера решилась порвать резину пауз и необязательных реплик: мне пора, до свидания, и – зашагала по Съезжинской, удаляясь, и Германтов, онемев от неожиданности, подумал: куда она уходит, куда…
Только что он уловил в глазах её последний вопрос: да или нет?
И – промолчал.
И что же с его стороны могло бы быть теперь глупее этого обречённо-сдавленного молчания?
Совсем коротко.
Вскоре Вера бросила аспирантуру, отказавшись защищать диссертацию, почти готовую, и исчезла из его поля зрения; через год он узнал из разговоров на кафедре, что она вышла замуж за иностранца и уехала за границу.
Так, «Мраморное мясо», – перешёл Съезжинскую; тучка наползала на солнце, меркли витрины.
Так, красно-кирпичный, словно подкопченный, брандмауэр, и – деревья, деревья… всё вокруг потемнело, стало сумрачным, мутноватым, лишь чёрные, будто лакированные стволы блестели; афиша: театр «Док», инсценированное «дело Магнитского», за афишным стендом, в стекляшке-забегаловке, – «Три пирога», а дальше – «Lee» – джинсовый рай», а ещё дальше и наискосок, на противоположной стороне проспекта, там, где вывеска итальянской сантехники «Марко Треви» и салон фаянса «Ван Бас», высокий, – раз, два, три… – шестиэтажный, со вздувавшимися эркерами и плавным скруглением на углу Зверинской улицы дом, за закруглением, – кафе «Фортуна», отель «Амулет»; посмотрел на дугообразный парапет с чугунными решётками в разрывах, с вазами, эффектно темневшими на фоне неба.
Ватный край тучки побелел и снежно загорелся, солнце высвободилось из ваты, засияли опять витрины, машины.
Высветлилось закругление фасада и весь фасад вдоль Зверинской. Ба-а, так в этом же внушительном угловом доме, в квартире на шестом этаже, были проводы Шанского в эмиграцию. Ему, как говорил, повезло иметь осьмушку еврейской крови, после пересечения госграницы грозило ему лишь безбедное преподавательство, запиваемое Шабли, заедаемое устрицами, – Шанский бодрился.
А вытолкнули «котельного оператора» Шанского в эмиграцию за «действа» в его котельной, – действительно, так и было, – управлялся он с насосами и вентилями будто бы безупречно, никаких нареканий, ни одной квартиры не заморозил, однако ему не смогли простить визит в котельную двух англичан из Оксфорда, – визит, который прозевала служба наружного наблюдения; Шанский уверял, что топтуны замёрзли во дворе и вынужденно, дабы не околеть, шмыгнули в дворовую служебную дверь «Европейской», чтобы отогреться и… – топтуны получили потом заслуженный нагоняй, их начальничек на повышение не пошёл, но последней каплей, переполнившей чашу терпения органов, стал цикл лекций, прочитанных Шанским в доме архитектора, в бывшем особняке Половцева. Всего-то лекций было четыре, а посетил Германтов лишь последнюю, «Город как текст». Белый бальный зал особняка был полон, люстры с хрустальными подвесками сверкали, Шанский был в ударе; Германтову места в зале не досталось, стоял в дверях, – в зале он увидел Соснина, Каганова, приехавшего по такому случаю из Москвы Глазычева, который, сохраняя невозмутимость, что-то интригующе чиркал в своём блок-ноте; а ведь не только Шанский, – благодарно подумал Германтов, – но и Глазычев тоже мог считаться его учителем, тысячу лет назад, вскоре после того, как Шанский наставлял-благословлял в пивной и под градом желудей на Васильевском острове, Глазычев подарил Германтову свою сенсационную книжечку «О дизайне», – с тех пор они ритуально дарили друг другу свои книги с витиеватыми дарственными надписями, а как-то попозже, на прогулке по Замоскворечью, – был такой же как сегодня весенний солнечный день с сосульками и капелью, – поблескивая голубовато-стальными щёлками глаз и улыбаясь в острую – и мушкетёрскую, и мефистофельскую, – бородку, молвил: пиша, вряд ли стоит принимать во внимание будущие реакции анонимных читателей, – надо писать на пределе возможностей для себя, разве что можно мысленно выбрать в качестве конкретного адресата письма ещё кого-нибудь из живых ли, мёртвых, но – исключительных, тех, чьё высокое мнение было бы для тебя самым ценным на Свете; в ту давнюю пору Глазычев, редкостно эрудированный, знавший несколько языков юный пижон с благородно-устремлённым профилем борзой ежемесячно удивлял мир своими ярчайшими эссе в «Декоративном искусстве СССР», Германтов с нетерпением ждал выхода каждого номера журнала. А чем, собственно, занимался Глазычев? Когда-то он, полиглот, архитектор по профессии, философ и искусствовед по научным своим степеням, с очаровательной улыбочкой вручил Германтову визитную карточку: «Вячеслав Леонидович Глазычев, хаотик». Хаотик? Леонардовская широта кругозора и свобода в выборе предмета исследования, снайперская точность мысли и… – садясь за пиш-машинку, тексты свои он сразу печатал начисто, а настучав одним махом страниц пятнадцать, прилёгши затем на диван, за како-то час приходил в себя. Интересы? Урбанистика, Искусство, Лингвистика, Культурология, Социология, – он писал-выражал какую-то междисциплинарную пограничность сложнейшей конфигурации; да-а, – с тоской замедлил шаг Германтов, – прошлым летом Глазычев, уж точно, – исключительный Глазычев, – умер.