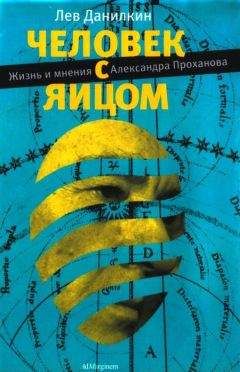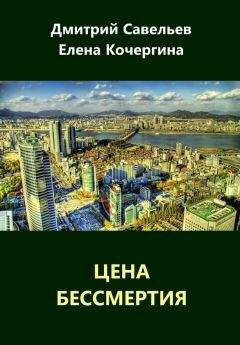Александр Товбин - Германтов и унижение Палладио
– Ещё, ещё, – просили гости, потягивая коктейли; только что Гена кинул по льдинке и дополнительной вишенке в каждый бокал.
высокий усатый человек
похожий на Петра Великого
продаёт сигареты
рядом стоит бородатый человек
похожий на протопопа Аввакума
мимо проходит человек
с широким грубым лицом
похожий на Каракаллу
а в витрине овощного магазина
моё отражение –
я похож на Марка Аврелия
После стихов, – она, конечно, звезда граммофона, но и модернизированный патефоном голос звучит божественно, – закрутилась виниловая голубенькая пластинка: «в лунном сиянии снег серебрится…».
– Как продвигается роман? – с лёгким кокетством окая, спросил Дудин, пока Вяльцева под нежный шелест винила переводила дыхание.
– Дописал, – потупившись, отвечал Гена: помимо стихов, он, потакая странной своей любви, сочинял в последнее время прозу, действие его романа протекало в Петербурге и Крыму в начале века, прототипом главной героини была Анастасия Вяльцева, а в прототипе главного героя нетрудно было бы угадать…
«Не уходи, побудь со мною, пылает страсть в моей груди… – на фото в рамочке, на которое искоса поглядывал Германтов, – Вяльцева под кружевным, просвеченным солнцем зонтиком, – не уходи, не уходи…»
После того, как Гену упросили почитать новую прозу вслух и он, стараясь скрыть волнение, прочёл заключительную главу романа, заговорили о подлинной судьбе Вяльцевой, о фантастическом взлёте её популярности, о богатстве, недвижимости, – об особняке на Мойке, нескольких доходных домах на Карповке, – о внезапной смерти её, давке на похоронах…
– Её смерть символизировала конец серебряного века.
– Правда, что композитор Зубов, сочинявший музыку для неё, был в неё безответно влюблён?
Гена кивнул и опустил голову; в известном смысле, давно истлевший Зубов, – как впрочем, и все влюблённые когда-то в Вяльцеву, – покуда сам Гена был жив, оставался его соперником.
– У неё был муж, кажется, офицер, генштабист, – у Германтова что-то шевельнулось в памяти, в висках застучало: эпизод приближался?
– Они обвенчались тайно из-за её низкого происхождения, – полковник генштаба не мог жениться на какой-то певичке.
– И, кажется, муж её был отъявленным дуэлянтом.
– Ещё бы, у тайной жены столько было явных поклонников.
– Да, дуэлянт, – кивнул Гена, – какой офицер откажет себе в удовольствии пострелять? А в остальном был он, наверное, малоинтересным типом, за судьбой его я не пытался проследить, что было с ним после войны и революции я не знаю.
– Я знаю, – неожиданно для самого себя, но явно подчиняясь какому-то внутреннему толчку, сказал Германтов.
Вскинув голову, Гена посмотрел удивлённо.
Гости изобразили немую сцену.
А Германтов, прямо-таки физически ощутив, что память уже вставляет патроны в обойму всеми ожидаемого рассказа, ещё и увидел перед собою вовсе не бокал с коктейлем и сморщенными вишенками на дне, а клин шоколадного, «пражского», торта на синей тарелочке с золотым ободком, сквозь папиросный дым увидел Соню, разрезанный пополам арбуз и жёлто-оранжевые лилии на фоновой картине Боровикова.
– С ним моя львовская тётка-лагерница случайно в Кулунде повстречалась, на пересылке; Германтов услышал Сонин кашель, далёкий-далёкий, голос.
Нетерпеливое, но – оцепенелое напряжение.
Слепой блеск круглых очков Динабурга.
Да… – кольнуло, – Динабург в прошлом году скончался.
Тишина.
Поскольку на лицо Германтова легла тень необъяснимого испуга, Житинский, очнувшись первым, посоветовал ему выпить для храбрости.
Выпил и, овладев собой, начал пересказывать то, что когда-то ему довелось узнать; Соня вновь курила и говорила, а он слово в слово повторял её рассказ о боях врангелевцев с красными отрядами на Перекопе, о паническом отплытии из Ялты на последнем пароходе в Константинополь, о переезде в Мюнхен… почему-то с дальнейшими сведениями Германтову жаль стало расставаться, умолк.
– А дальше-то что было с ним, дальше? – в один голос заторопили. Динабург машинально огладил взъерошенные только что волосы, Житинский, почуяв приближение редкостного сюжета, вскочил из-за стола, начал, задевая книжные полки, нервно и быстро ходить по комнате.
– Дальше, – самое интересное. – Вяльцевский муженёк, ненавидевший по понятным причинам евреев и комиссаров, прятал на своей мюнхенской квартире Гитлера, когда того, после пивного путча, разыскивала полиция…
Надо ли добавлять, что слушали Германтова с нараставшим вниманием? – его оцепенелое напряжение передалось слушателям, тем более, что судьба Вяльцевского мужа косвенно пересеклась в пересказе-рассказе с судьбою Набокова, который тайно, но победоносно тогда покорял читателей.
– Что потом, после отсидки в сибирском лагере?
– Понятия не имею; он ведь с нацистскими бонзами якшался в самом начале, когда они только шли к власти, а потом он всё же не совершал никаких особенных преступлений и, отсидев в сибирском лагере, надеялся вернуться в Германию.
– Известна его фамилия?
– Я возможно что-то путаю, но запомнил что-то шепеляво-шипящее, – Василий Шелепнёв или Шелешнёв.
– Да, Василий, а вот фамилия у него, кажется, была другая, подлиннее, почему это – строго смотрел Гена, – Шелепнёв-Шелешнёв? Никакой он не Шелепнёв.
– Это – условно, у него спереди нескольких зубов не было, он будто бы из-за этого отчаянно шепелявил и так его для простоты называли зэки.
– Бискупский, по-моему, – вспоминал настоящую фамилию Гена: да, Василий Бискупский. А как он выглядел? – спросил явно взбудораженный Гена, похоже, он уже не считал свой роман дописанным до конца.
– Мне запомнилось только, что вдобавок к идейной фашизоидности, был он после всех испытаний своих и внешне пренеприятным типом, и что-то после ранения на Перекопе с глазом у него случилось, веко дёргалось, а вот каков облик был у бывшего бравого офицера, – не знаю.
– Я знаю, – сказал Соснин; совсем неожиданно.
– Вечер откровений! – окнув сильней обычного, воскликнул Дудин.
Теперь уже все смотрели на Соснина.
Казалось, и сам он был удивлён.
Даже – смущён-растерян.
– Картина вдруг ожила… – как бы оправдываясь, начал Соснин, – в студенческие годы наш курс отправили в Казахстан, в Павлодарскую область, на целину, – он заговорил побыстрее, – эшелон задержался в Кулунде, мы повыпрыгивали из теплушек… жуткое, я вам скажу, местечко: земля какая-то выжженная, загаженная и паровозной гарью присыпанная, ни деревца, ни травинки, и грязь особенно сгущалась вокруг одинокого турника, – несколько ветхих серых бараков, штабель брёвен, а достопримечательностью в этой безнадёге была грибовидная обдёртая кирпичная водокачка и привязанный к ней тощий верблюд.
– Ну и…
– Мы в теплушках дней шесть тащились с долгими стоянками на запасных путях, полуголодные были всю дорогу, на каком-то огороде под Омском, когда застряли у закрытого семафора, накопали картошки, а в Кулунде на костре сварили… он к нам подошёл, чтобы прикурить… и присел чуть поодаль, курил, мне показалось, с интересом к нашей болтовне прислушивался, словно мы из какой-то другой страны, – страны, где он никогда не бывал, приехали; я его даже угостил картофелиной в обугленном мундире; он, помню, и соли попросил.
– Откуда ты знаешь, что – он?
– Так тип, действительно, был противный, врезался в память, а портрет, который Юра набросал с чужих слов, я сейчас легко смогу уточнить, – Соснина мучил аллергический насморк, говорил Соснин, хлюпая носом, – пожаловался даже, что в пору тополиного пуха ощущения такие, будто изнутри нестерпимо чешутся ноздри. – Он, – Соснин прижимал к носу платок, – темно-коричневый был от солнца, морщинистый, с гниловатыми, прокуренными зубами, с рябыми шелушившимися залысинами: я не мог его не запомнить. Ну и глаз у него явно был повреждённый, – полуоткрытый, с мутно-белёсой плёнкой, и веко дёргалось и нескольких зубов не было у него, а те зубы, что оставались… были жёлтые от никотина. Отталкивающе-противный тип; при этом что-то притягательное, даже что-то значительное в нём ощущалось, правда, я чувствовал его сильное эмоциональное поле, наверное, поэтому так запомнил, а сейчас… столько лет прошло, однако же как сейчас его вижу.
После неожиданного рассказа Германтова, совсем уж неожиданно подтверждённого свидетельствами очевидца-Соснина, помолчали, по-своему переживая услышанное, – сосредоточились на крепчайших сладковатых коктейлях, уже и солнце светило, уже и трамваи пошли, а вдруг у всех гостей дикий аппетит проснулся, позабыв о возведённых в ритуал правилах, Гена, – после десертов и пирожных! – наскоро вскрывал запасную банку сайры, нарезал колбасу.