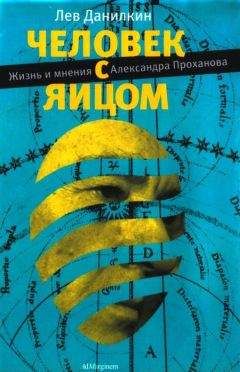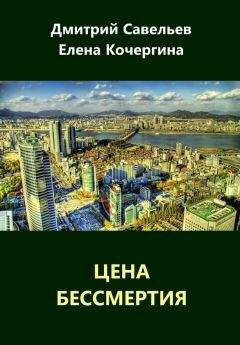Александр Товбин - Германтов и унижение Палладио
И тоже – на кухне.
Широкая улица, – бывшая улица Ленина, помеченная бюстом вождя, партерным садиком…
Тёплый, почти что горячий пух летел навстречу ему.
Он возвращался в прошлое, а время дуло в лицо из будущего?
И всё ненужное, в данный момент ненужное, выветривалось из головы?
Так всё чаще казалось ему, всё чаще, – какой-то опережавший будущую реальность поток его овевал.
Интуиция? Интуиция тревожно включалась, а память начинала нашёптывать Генины стихи ещё за квартал от углового ювелирного магазина?
Справа, вдали, проступали сквозь густые кружения тёплой тополиной метели пластичные фасады Лишневского, одного его дома и, – чуть поодаль. – другого, а слева… да, – почти пришёл, – слева показался серо-охристый, туповато-тяжёлый, сталинских времён, дом: этот дом считался престижным, его называли «писательским», в нём успела пожить Ахматова.
Ещё и к входу в дом не свернул, а слышал уже застольные голоса: вот быстро взлетающий в ломкую высоту и глуховато-падающий голос Житинского, – о, упругий и лёгкий на подъём и слово Саша Житинский, один из первых компьютерщиков и первопроходцев Сети, студенческий чемпион по прыжкам в высоту, страстный автомобилист, гонявший по городу на стареньком распадавшемся «москвиче», приятель и жизнеописатель великих ленинградских рокеров, поэт-прозаик, – именно так, через дефис, поэт-прозаик с особенным, – фантастичным? – флёром, был тогда на пороге писательской славы: многие уже прочли тогда «самиздатовскую» абсурдистскую «Лестницу», печатать которую официально ни один журнал не решался, да ещё, кажется, был написан им к тому времени очаровательно-остроумный «Снюсь», – быстрый, летуче-лёгкий тогда, он таким же инерционно казался Германтову и в болезненной старости, когда ездил в синем солидном Опеле, а переходил тротуар от машины к двери издательства затруднённо-медленно, прихрамывая; он и умер внезапно, будто бы на лету, и почему-то – в Финляндии; да, нынче всё чаще стали умирать за границей… вот зазвучал мягко-напевный, бабий почти что, но с хрипотцой, голос Дудина, вот донёсся и пропал заливисто-тряский смех порывистого непоседы-Динабурга, вот броская и острая, как жало, самоуверенно-непонятная, высокомерно-твёрдо выговоренная строфа Драгомощенко, при этом, – вроде бы неотличимая от застольной реплики, а вот и тихий, как бы отмеряющий порядок простых многозначительных слов, выстраивающий из этих слов сложные ступенчатые композиции из строчек-смыслов, голос самого Гены, и ещё тогда украшали застолье умные дамы: поэтесса и критикесса, изящный физик-атомщик с шёлковыми светлыми волосами и трубкой, – впрочем, об июньских застольях у Алексева в предисловии к его роману замечательно написал Житинский, не стоило повторяться, не стоило, но всего один эпизод прошлого, почему-то, как заноза, засевший в памяти, захотелось снова проиграть Германтову, тем более, что давний памятный эпизод тогда, на том ритуальном пиру, получил развитие, – это для Германтова и воспроизведения того эпизода решающе важно, – был тогда на Алексеевском дне рождения и Соснин, точно, был, с чего бы иначе выделился из застольной разноголосицы его голос в нос, в мокрый нос? Соснин, помнится, в сезоны тополиного пуха аллергически хлюпал носом. А Шанского с Кузьминским точно не было на том дне рождения, – искать интеллектуальное счастье отправились в эмиграцию, да, знай наших: Шанский уже в тот год покорял Париж, а Кузьминский выкидывал свои эпатажные номера в Нью-Йорке. Что же до вездесущего, во многих компаниях обязательно выраставшего над столом с рюмкой водки или наполненным бормотухой стаканом в руке и сверхпривычно звучавшего Головчинера, то на днях рождения у Гены никогда его вообще не бывало, хотя Данька, что называется, стучал копытом у ворот любой из окультуренных пьянок, чудесно успевал даже за один вечер, как нанятый дед Мороз перед Новым Годом, продекламировать созвучные застольным тематикам тосты-строфы-катастрофы, – катастрофой называли явление самого Головчинера, – на нескольких пьянках в разных районах города, но тут-то от ворот он получал молчаливый, издавна узаконенный в глазах посвящённых поворот, конечно, конечно, Данька для Гены был персоной нон грата по понятной вполне причине, – не хватало ещё Гене у себя на днях рождения, столь тщательно им самим срежиссированных, слушать, как бестактный Головчинер декламировал бы, не зная удержу, стихи своего рыжего кумира, а так, в отсутствие досадливого декламатора, Гена себя чувствовал куда комфортнее…
Хотя и с выверенными гостями возникали шероховатости.
Гена хотел признания, очень хотел, если не сказать – жаждал, а Динабург, будто бы не зная об этом, – быстро-быстро, как бы проглатывая со слюною слова, говорил: какой был бы ужас – получить прижизненное признание! Сколько усилий пришлось бы тратить на самозащиту от нежелательных общений, почти принудительных, я очень быстро устал бы от славы и удовольствий, быстро состарился бы и – сдох…
Гена с молчаливым достоинством глотал пилюли, а Дудин, ловко поймав паузу в возбуждённой речи Динабурга, молвил: виноград зелен.
Мысли разбежались… поболтали, кажется, о книжке прозаика Базунова, кто-то его похвалил за то, как написал он о грустно клонящихся к воде каналов питерских тополях; а что, что оживило сейчас далёкий тот эпизод, захвативший внимание гостей, – эпизод таинственно-яркий, и сейчас затмевающий те застольные разговоры? Что оживило? – запавшие в память пение Вяльцевой, стихи Гены. А на Большом, – перед непереключавшимся светофором у Широкой улицы, – образовалась пробочка, загудели машины.
Звяканье посуды, смех…
И в сочетании с фоновым нестройным хором гостевых голосов, – Динабург весело рассказывал как поэты дразняще-переиначивали его фамилию, – шут-Кузьминский по-хулигански кричал с другой стороны Невского, от Гостиного, завидев как Динабург вылетал из почтового отедления Д‑11, – смотрите, – кричал, – люди добрые, смотрите, Диназабург идёт, а Кривулин, сама почтительность, не без подкола называл Дидемиургом: слова, слова, слова. А порой вырвавшись из гула голосов, заполонявшего звуковую память, каким-то неизменно волнующим далёким соло, слышалось Германтову дрожаще-дребезжащее пение, которое доносилось вовсе не с голубенькой виниловой пластиночки, выпущенной ничтожным тиражом и по счастливому случаю доставшейся Гене, а, казалось, из глубин времени; и, само собой, он слышал белые стихи.
люблю
когда рушится
цветущий мир моего благополучия
люблю смотреть
на его дымящиеся развалины
люблю
долго по камушку
восстанавливать разрушенное
и не люблю
когда меня отвлекают от работы
дурацкими вопросами:
зачем-де восстанавливать
всё равно всё разрушится
люблю
бессмысленный труд
И замолкал голос, Гена в угрюмой задумчивости листал самодельную свою книжечку, выбирал что бы ещё прочесть, но затягивавшаяся пауза пустой не бывала…
И хотя Головчинер по уважительно-понятной причине отсутствовал за именинным столом и без него произносились тосты, но и Бродского всё же не могли не держать в уме и вскоре, раньше ли, позже, а речь о Бродском обязательно заводилась: Бродский, как если бы все гости уже тогда, когда он только приземлился в США, были оповещены о вызревавшей за драпировками Нобелевского Комитета сенсации, по негласному праву «первого поэта» занимал центр ревнивых поэтических дискуссий.
Гена всё ещё листал с поникшей головой свою книжечку, – листал, листал, но кто-то не вытерпел:
– Бродский говорил, что свободный стих – это вино без бутылки или стакана.
– Мнение Бродского, замурованного в традиционной рифмике, для свободного стиха не имеет значения, – не пряча раздражения, не переставая листать с опущенной головой свою книжечку, молвил Гена, а тут кто-то вспомнил, что в своё время Набоков положил глаз на какой-то стих Бродского, даже переслал с оказией в подарок бесштанному, вернувшемуся из ссылки в Норинской Бродскому джинсы; раздался смех, Динабург затрясся и растормошив шевелюру, тут же её огладил, сказал, как бы поливая лошадиной дозой бальзама незаживающую Генину рану: рифмовальщик всегда рискует вляпаться в грязную историю, ему, к примеру, трудно устоять от соблазна срифмовать гомосека с генсеком, – Гена был доволен такой разрядке, перелистнув ещё пару страниц, решился:
поглядеть на мир
широко раскрыв глаза
удивлённым наивным взором
(усыпить его бдительность)
он разоткровенничается
начнёт хвастаться
станет кичиться своим величием
тогда
мельком
как бы невзначай
так взглянуть на мир
чтобы он осёкся
чтобы он взрогнул и сник
(пусть не зазнаётся!)
уходя из мира
самодовольно усмехнуться
– Ещё, ещё, – просили гости, потягивая коктейли; только что Гена кинул по льдинке и дополнительной вишенке в каждый бокал.