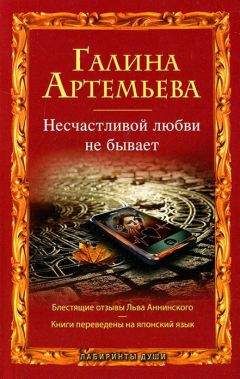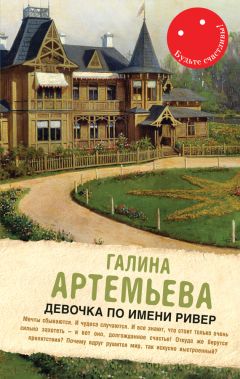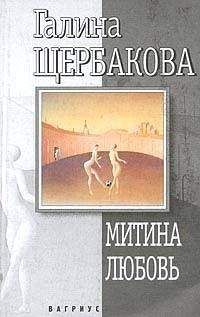Галина Артемьева - Чудо в перьях (сборник)
– Шоферу своему купите, – посоветовала Валька. – Что он у вас ходит непонятно как одетый. Надо купить ему форму. Пиджак с аксельбантами. И маски, несколько, на разные случаи жизни. Днем скромненькую, попроще, а на выход вечером вон тот вон нос. И треуголку с бубенчиками. Гаишники будут отшатываться. Вас ваши знакомые зауважают. Праздник без конца!
– А что, – призадумалась красавица. – Китель я ему, пожалуй, куплю.
И в этот момент Вальку осенило, чем можно заняться, вернувшись домой. Они откроют бутик. У богатых есть слуги – кухарки, няньки. Пусть все они ходят в форме. От-кутюр. И пусть богачи соревнуются, у кого слуги круче одеты. А то что-то им скучно стало совсем.
Стоит ли удивляться, что и это Валькино желание исполнилось? Их бутик процветал, потому что формы для слуг стоили бешеных денег. Иначе какой бы богач стал их покупать? Персональные шоферы возили теперь по вечерам своих хозяев в немыслимых масках и камзолах. Уже в газете бесплатных объявлений стали появляться заявки бунтарей: «Ищу работу персонального водителя. В масках и формах НЕ ПРЕДЛАГАТЬ».
Вальку теперь постоянно приглашали на всякие ток-шоу, чтобы она объяснила миру свою эстетическую концепцию. И как это все корреспондирует с этическими нормами.
– А че! – пожимала плечиком Валька. – По-моему, прикольно.
И зал по команде ассистента бешено рукоплескал.
Она так в конце концов примелькалась, что ее позвали ведущей в шоу, где обсуждали придуманные сценаристами такие превратности любви, от которых у доверчивых домохозяек мысли рассыпались как горошины, а чувства разгорались нехорошим огнем.
– Ну и как тебя звать будем? – спросил режиссер, имея в виду сценическое имя.
Валька подумала, что нужны ее паспортные данные, и честно сказала: «Сильва».
– Какая Сильва? При чем тут Сильва? – режиссер не любил плоских шуток.
– По паспорту Сильва! – прокричала Валька и сунула ему под нос документ.
– Аг-га… Сильва… Сильва Федоткина… Ну это… Ты у нас Сильвой Федоткиной не будешь… А будешь ты у нас Сильвана Мангано!
Так Валька стала полной тезкой знаменитой кинозвезды, о чем она не догадывается и по сей день.
Ведет себе шоу про любовь и других желаний пока не имеет. Не в космос же лететь! А увидеть по ящику ее может каждый. По рабочим дням с четырех до семи.
Родители ее ни одну передачу не пропускают. И как увидят на экране светящуюся и переливающуюся дочу, так и зовут в два голоса: «Сильвочка, Сильваночка!»
Вот он, праздник жизни – только кнопочку нажми.
Любовь твоя сияет…
Мама! Мамочка! Ой, что мне сейчас приснилось! Ох, ужас, мамулечка. Мне сейчас такое приснилось… Что ты умерла. Видишь, слезы. Я до сих пор плачу. Вся щека мокрая, вот.
Жестокий сон. Злой.
Ты мне часто снишься. Раньше всегда добрая, веселая. Легкая, молодая. Обнимала меня, согревала. И прямо в глаза мне смотрела своими глазами морскими. Они у тебя бирюзовые, глубокие. Я, когда впервые море увидела, сразу поняла, что оно доброе, потому что вода его – как мамины глазки. И плавать именно в море научилась, сразу, о тебе думая.
За что же сегодня такое наказание?
Я сначала увидела большой-большой дом, много-много комнат, картины по стенам высоко висят. Я чуточку подпрыгнула и полетела вдоль стен, все портреты чьи-то разглядывала, будто бы родственников каких-то, гордилась, что у меня их столько, что я теперь всю свою родословную узнаю и генеалогическое древо потом нарисую. А они, эти портреты, кивали мне и глазами показывали, чтобы я дальше, дальше летела, что там меня кто-то самый важный ждет. Взглядами меня провожали.
Сейчас мне страшно. Но во сне я их не боялась – они были свои и зла мне не желали. Так я комнату за комнатой медленно проплыла. За окнами светать начало – там окна огромные – от пола до потолка, из них реку широкую видно, на другом берегу – город. Я все хочу у какого-нибудь окна подольше задержаться, чтобы понять, что это за город прекрасный такой.
Но портреты приказывают двигаться дальше, и я все плыву и плыву, ничего не боясь и не уставая. Как во сне. Хотя это и был сон, но я тогда совершенно реально летала, поэтому и наслаждалась, что вот не во сне, а летать-то умею – летаю, как раньше только во сне могла.
В самой дальней комнате сундучок стоит, простой, деревенский. На нем, на голом сундучке, на досках, кто-то лежит неподвижно. Не портрет – человек настоящий. И портретов вокруг – ни одного. Я не знаю, что мне делать, подлетать ли к этому спящему человеку или это нельзя, нескромно мешать ему спать, глазеть на него, раз уж он так по-бедному отдыхать устроился.
Но спящий совсем не шевелится, и я решаю все-таки приблизиться к нему: раз уж я теперь летаю, может быть, я даже и невидима, или видима только портретам, а не настоящим людям. Я оказываюсь совсем близко, над сундучком. Вдруг вижу – там ты!
Каждый волосок твой вижу, каждый ноготок на бледных пальчиках. Лицо твое прекрасное, без единой морщинки, губы так сложены, что будто и улыбаются чуть-чуть, и горюют. Но на меня ты не смотришь, глаза закрыты, а под ними черные тени. Я зову тебя, зову, но ты не шевелишься, не просыпаешься, даже дыхание во сне не переводишь.
И тут только я понимаю, что нет его, дыхания, что в комнате тишина мертвая, такая, что и меня будто там нет, и что там, на сундучке, тело твое лежит, а душа отлетела.
У меня сердце так и упало! Хочу закричать – не могу. И только думаю: все! Все! Никогда я тебя больше не увижу! Никогда! И даже во сне уже живой тебя не увижу больше. Кончилось мое счастье. Кончились мои благодати.
Двигаться больше не могу, застыла над тобой, как камень. И, главное, знаю, за что мне такое страдание – за то, что плохо тебя искала, все на какой-то случай счастливый надеялась, на чужую помощь, на то, что само собой, откуда ни возьмись, ты появишься. Всех усилий не прилагала. А ты в это время, моя родненькая, умерла без моей помощи, одна, в нищете. И мне так и не показалась.
И вот когда я это поняла – а все это было как не во сне, понимаешь? совершенно как не во сне – вот тут я упала с высоты прямо на этот сундучок. Только тебя на нем уже не было. И нигде больше не было. Я даже твоим лицом – мертвым лицом твоим – налюбоваться в последний раз не смогла. Тут я и заплакала. И сейчас еще плачу, остановиться никак не могу.
Впервые за много-много лет плачу, почти за всю свою жизнь. Ведь брошенные дети, даже самые маленькие, не плачут. Знаешь ли ты? Они откуда-то надоумлены, что некому им плакать, некому жаловаться. И молча претерпевают. Крепятся. Что бы с ними ни происходило нестерпимого. Потому что в злых слезы еще большую злость разжигают, в жестоких – еще большую жестокость, в равнодушных – пустое раздражение, а добрые, если найдутся, и так, без всяких слез, чем могут, помогут.
Кто-то, вот так молча, ломается, кто-то сильным становится. Но с детства знают все, что полагаться могут только на себя и что никто им в этом мире не должен, зато они должны всем. И в первую очередь своим матерям, которых больше всего на свете мечтают найти, встретить, чем-то помочь, налюбоваться ими успеть.
Они понимают, что мамы не виноваты, оставив их. Просто так получилось. Просто жизнь была тяжелая. Бедная. Невозможная. И некуда было деваться. И страшно было одной с маленьким. Самой погибать и его за собой тянуть. Вот и решилась. Брошенные дети это понимают. Они своим матерям не судьи. Им бы хоть фотографию мамину иметь, чтоб на нее молиться, или имя свое настоящее знать, зацепку какую-то. Как в сериалах: потерялся ребеночек нечаянно или украли его злодейски, но он медальончик мамин всю жизнь на груди носит, а в медальончике за ликом Мадонны – мамин портретик спрятан да еще с обратным адресом. Главное – разгадать секрет своего талисмана. Но в итоге все догадываются.
Мне бы такой медальончик. Уж я бы его иссмотрела вдоль и поперек.
Только меня нашли без медальончика, вообще без ничего. В сером одеяльце, веревочкой перевязанном. Я лежала на ступеньке разрушенного монастыря, и это великое чудо, что мимо проходили люди и обратили внимание на грязно-серый неприглядный тряпичный кулек. Я лежала молча и никого уже не звала. Но прохожие остановились и пригляделись. Богородица их за меня попросила. Позвали милицию, отвезли в больницу, возраст примерный определили – три месяца, и стала я жить-поживать одна-одинешенька, оставленная на милость и немилость чужих людей.
Откуда я все это про себя знаю? От доктора той самой больницы. Она мне и имя дала, как у нее, – Анна, и фамилию – Монастырская. А какая еще у меня могла быть фамилия? Ведь никакого намека на меня настоящую ты не оставила. Я не упрекаю, я знаю почему. По какой-нибудь ерундовой детали тебя могли бы найти, а тебе тогда это было нельзя. Ты тогда сильно мучилась. Тебе было плохо – хуже некуда. Я за эти годы все про тебя представила и поняла.
Ты была совсем молоденькая, и случилась с тобой беда. Ты даже не сразу догадалась, что происходит, что у тебя буду я. А потом так испугалась, что никому и рассказать не осмелилась. Ты стала сама не своя, как сомнамбула, и потеряла способность по-простому, по-человечески все обдумывать. В какой-то момент особого ужаса села в первый попавшийся поезд, уехала, куда глаза глядят, потом работала на какой-нибудь незаметной работе, снимала угол у жадной скрипучей бабушки. И родила ты меня молча, на теплой летней траве, одна. И обрадовалась мне, и полюбила. Ты кормила меня своим молоком. И все время смотрела мне в лицо своими лучистыми глазами. Я их до сих пор помню. Они меня по жизни ведут.