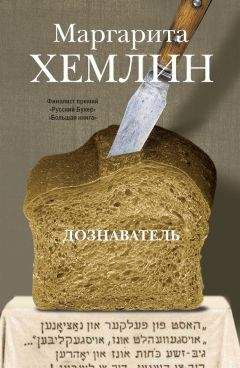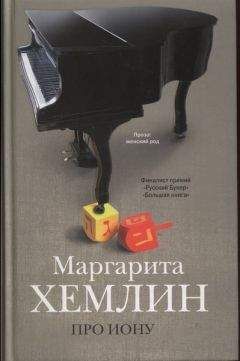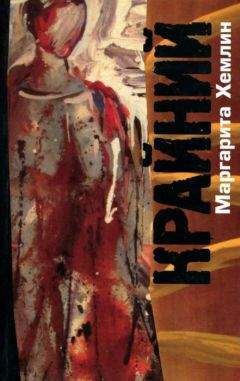Маргарита Хемлин - Про Иону (сборник)
Про себя я уже решила, что это судьба и что дальнейшее зависит только от меня. Независимо от того, как оценить родившееся чувство близости.
Блюма встретила меня в хорошем настроении. Первым делом она показала мне письма от Миши. Я узнала много нового. Оказывается, Миша служит на подводной лодке. Страшные картины из фильма «Добровольцы» встали перед моим мысленным взором. Мне он ничего не писал про подлодку. Мне он вообще ничего не писал, кроме упреков насчет маминых похорон.
У Блюмы скопилось штук двадцать писем. Она порывалась прочитать их все по очереди и сказала прямо:
– Я знаю, что Миша тебе не пишет. Он сообщил о таком намерении чуть ли не в первом письме. Мы с Фаней считали, а теперь я считаю, что Миша как сын – не прав. Тут, – Блюма постучала толстым пальцем по стопке конвертов, – вся его военная жизнь. И про товарищей, и про океан, и про его мечты. Прочитай, пожалуйста, у него почерк стал очень неразборчивый. Но я разбираю хорошо, есть привычка, понимаешь? Привычка много значит.
Я отказалась читать письма. Конечно, в них все неправда. Если бы у Миши была какая-нибудь правда, он бы не стал писать сюда. Он бы вообще никуда не писал. Это мне подсказывало сердце.
Я поинтересовалась, присылал Миша фотографию или нет. Блюма побежала в свою комнатку, какую они с Фимой заняли сразу, и принесла фото. Миша в матросской форме, в бескозырке, на черной ленте «Тихоокеанский флот». Глаза грустные, отчаянные. А ртом улыбается. Чуть-чуть, но явно.
– Красивый, правда? – Блюма прижала фотографию к сердцу, будто речь шла о киноартисте.
– Да, Блюма, красивый.
– Красивый, Майечка, но не на твою красоту. И Фанечка говорила, что похож не на тебя.
Я насторожилась:
– А на кого? На Фимину красоту, что ли?
– При чем здесь вообще Фима? – Блюма надулась и закрыла рот на замок. – Ладно, не мое дело. Какие планы у тебя на лето? Может, приедете к нам? У нас летом весело, и кино в парке, на воздухе, и танцы, и базар большой. Только дорого. Дачников – полно. Остерских меньше, дачников – больше. Миша смеялся, что местных евреев скоро в краеведческом музее будут показывать. Правда. Он евреев любит. Прямо так и говорил: я евреев люблю. Хороший мальчик, мы ему привили.
Я устала с дороги, не хотелось рассуждать. Я спросила, где Фима. Фима находился на прогулке в магазин, пошел за хлебом.
За окном стемнело, хоть часы показывали четыре часа дня по московскому времени. Тогда это было все равно – что московское, что остерское. Одинаковое.
Я прилегла на большую кровать в комнате мамы и Гили.
Вскоре вернулся Фима. В кожухе, в стеганой ватной шапке. Уши опущены, завязаны под подбородком, рукавицы большие, тоже ватные, и штаны ватные, заправленные в валенки. Он еле поворачивался и прижимал к животу круглый коричневый хлеб, толстая корка общипана. И на подбородке в щетине крошки.
Он увидел меня и улыбнулся открытым ртом. А зубов у него осталось только впереди – три сверху и два снизу.
Я летом не увидела.
Блюма заметила, как я смотрю на Фиму, и загородила его своим телом. Прижалась вплотную, как стена.
– Фимочка пришел. Маленький мой пришел! Сейчас мы разденемся. Майечка приехала, наша Майечка дорогая-любимая к нам приехала! Да, Фимочка?
Фима смотрел на меня и улыбался. Узнал – не узнал. Непонятно, раньше не узнавал.
Блюма продолжала концерт:
– Майечка приехала, Мишенькины письма все-все перечитала от корочки до корочки, снимочек перецеловала, и в губки, и в глазки, и в лобик, и в бескозырочку его красивенькую, и в волосики под бескозырочкой! Да, Фимочка? Где наш Мишенька? Где наш сыночек любименький?
Фима как будто расслышал что-то знакомое. Он улыбнулся еще шире. Блюма по привычке вытерла рукой слюну у него с подбородка и этой же рукой схватила со стола фотографию Миши. Стала тыкать в глаза Фиме.
– Вот наш Мишенька, смотри, Фимочка, вот наш сыночка родной! Скоро к нам приедет.
Я выбежала прямо в чем была, босиком и в тоненьком шерстяном платье, на холодную веранду. Хотела дальше – на двор, но дверь заколодилась из-за накопившегося снега.
Постояла секунду и вернулась как ни в чем не бывало. Не говоря ни слова, постелила себе постель и легла. Я поклялась, что ни кусочка не съем в этом доме.
Конечно, я лежала без сна.
Ясно, Блюма знает про Куценко. Мама ей рассказала. Что она еще рассказала? Что в Блюминой дурной голове переваривалось долгие годы, что она внушала Мишеньке на пару с Гилей, какие слова, какие понятия бродили в моем сыне? Какая бражка у него в голове? Непостижимо уму.
И Мирослав сюда приезжал, конечно. И все вместе они сидели за столом и ели. И говорили, и обсуждали израильскую войну, и черт знает что еще обсуждали с моим родным сыном. Одним делать нечего, и они воюют, а из-за них тут расхлебывай. Другие настраивают сына против матери. Третьи умирают не своей смертью. Четвертые валятся замертво ни с того ни с сего. И все на меня, на меня. Привили. Ну что они могли привить хорошего? Что они понимали? Это ж надо заявить: Миша евреев любит. Лучше бы он себя как такового любил. Без учета национальности.
Я лежала на той же перине, что и мертвый Гиля всего год назад. И подушки те же. И они меня душили сами по себе. И теперь Блюма имеет совесть приглашать меня на лето в мой же дом.
Ночью я проснулась. Из комнаты Блюмы и Фимы до меня доносились уханье, стоны, хлюпанье и что-то еще. Я повернулась на звук. Кровать заскрипела. Понятно, что там происходило. Но надо же закрывать дверь!
Чуть ли не в ту же минуту у них в комнате зажглась лампа. Появилась Блюма – как привидение, в широкой ночной сорочке, с распущенными длинными волосами. Всклокоченная жирная старуха.
– Извиняюсь, Майечка. Мы тебя разбудили. Извиняюсь. Спи, спи. Отдыхай. Я тебя утром разбужу. На работу буду идти и разбужу. Фима ж так рад, что ты приехала. Так же ж рад.
Я пролежала с открытыми глазами до утра. Молила Бога, чтобы обернуться в один день и не задержаться тут ни на минуту.
Так и получилось. Всюду в инстанциях меня встречали приветливые, доброжелательные служащие. Понадобились небольшие взятки, но как же иначе. К вечеру документы оформились.
Блюма вела себя как хозяйка положения. Насколько у нее хватало ума, настолько и вела. Я осадила ее вежливо, но решительно.
А Блюма виновато улыбнулась и протянула:
– Майечка. Извиняюсь. Ты меня неправильно поняла. Ты, наверное, думаешь, что я не умею держать свой язык. Нет, ты сильно ошибаешься. Я – могила.
Что она имела в виду, я не выясняла, чтобы не дошло до скандала. Поняла одно: Блюма – свинья.
Я носила изящные часики на золотом браслете, подарок Марика, они достались ему по случаю от какого-то офицера, служившего в Германии.
Миша сразу обратил внимание на мою обновку, хоть обычно все принимал равнодушно. Я рассказала, что часы трофейные, из Берлина.
Он попросил глянуть. Повертел, браслетик погладил и говорит:
– Ты, мама, наверное, знаешь, что немцы из еврейских зубных коронок изготавливали изделия. И это тоже, может быть.
И пошел себе на кухню, играть в шашки. Было ему тогда лет пятнадцать.
Откуда у него сведения про коронки? В школе такое не говорили. Теперь понятно, чье влияние.
И вот эти злосчастные часы я надела к Блюме в Остер. Без мысли. Золото есть золото.
Блюма смотрит на мои часики и говорит, смотрит и говорит. После всего, сказанного выше, практически без перерыва:
– Какие симпатичные часики. Золотые?
– Золотые. Хочешь, Блюмочка, подарю?
– За что? – Блюма разыграла удивление.
– За то, что ты за домом смотришь, за Фимой ходишь. Хочешь?
Я снимаю часы с руки и кладу на стол. Прямо на Мишины письма – они лежали там с вечера. Блюма, наверное, надеялась, что я буду их читать ночью. Блюма, вроде вслепую, сунула часы в карман передника и заверила меня:
– Могила. Имей в виду. Чистая могила.
Да. Я возвращалась к своей жизни с того света.
В поезде приводила свои мысли в порядок вещей. Я пыталась понять природу своего испуга.
Ну, допустим, Миша знает, что его отец Куценко. И что? А если он не знает, что его отец Куценко, а считает, что его папа – сумасшедший Фима? И что?
Миша вырос. Пусть сам разбирается со своими отцами, со своей наследственностью, вплоть до Мирослава. Я ни слова ему не скажу в этом направлении. Если спросит.
А если не спросит, а сам расскажет Марику – и про Куценко, и про Фиму? Причем не только по собственным наблюдениям, но и по соображению мамы, Гили и – самое плохое – Блюмы. И что?
А то! Какая я тогда получусь мать для Эллочки в глазах Марика? Это во-первых. А во-вторых, какая жена?
Следовательно, оберегать надо не Мишу, а Марика и Эллочку. И оберегать именно от Миши.
Да. У меня было секретное оружие против Миши – Гиля и его лехаим. Но в любом случае оставалась Блюма. Может, и она была в курсе насчет этого. А она может по дурости и против Миши выступить, и против меня, и против всех. Потому что она только за Фиму и больше ни за кого.