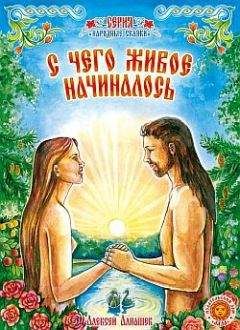Ада Самарка - Мильфьори, или Популярные сказки, адаптированные для современного взрослого чтения
Он чуть замешкался. Ответил:
– А тут новую дорогу наискосок провели, так быстрее. Ты что, не знала?
Бузя испуганно смотрела по сторонам. Лес был такой же, как и везде, привычный лес, возможно, камней между елками чуть больше, а дорога, конечно, хуже, вся в ямах и колдобинах. Но было тут как-то особенно неуютно. С той, своей, обступившей лагерь неуютностью она уже свыклась, а эта, чужая, казалась совсем ужасной.
«Чертово место», – подумал Кадык.
– Тебе по нужде не надо? – спросил он как можно беспечней.
– Нет, – ответила Бузя, потому что ей показалось, что, если машина остановится и они как бы сольются с этим лесом, случится непоправимое. – Как-то не нравится мне тут…
– Да брось, – ухмыльнулся Кадык, – тут же никого нет, а самый страшный враг человека – это кто?
– Человек, – закончила Бузя любимую поговорку мачехи.
– То-то, – ответил старый зэк, поглядывая на одометр и вспоминая карту. Дорога и не думала кончаться. И этим летом, с момента как стаял снег, тут явно не проехала ни одна машина, не ступила ни одна нога, а поди и лапа.
– А можно, я песню спою? – неожиданно спросила Бузя.
Кадык как раз решил, что проедут еще три километра, будет вершина небольшой сопки, там и станут.
– Ну, спой.
Тонкий голосок выводил «Цвите терен, цвите терен» в дремучем безжизненном лесу, проехали они те три километра и катились дальше, прямо на север, по серой дороге, прорубленной, как тонкий шрам на волосатой голове.
– Это меня ссыльные украинцы научили, им вообще не разрешают петь такие песни, но они все равно поют, и мне кажется, очень красиво… – объяснила Бузя.
– Ну, хорошо, выходи, – неожиданно сказал Кадык и остановил машину. Заглушил двигатель. Тишина будто прыгнула на них, кинулась тяжелым ватным одеялом, смешиваясь с гулом дорожной усталости в висках.
Бузя пошла к елкам, по правую сторону от машины, как приходилось всегда при аналогичных остановках. Но палач неожиданно двинулся следом за ней. Она обернулась, замерла, он взял ее за локоть и потащил за собой, в глубь леса. Она решила, что что-то нехорошее появилось там вдруг со стороны дороги, и, закусив от волнения губы, льнула к нему и думала, что вполне он мог бы быть ей дедом. И что в лагере всегда боялись этого человека, потому что за ним ходила дурная слава, и в столовой ел он всегда один, без компании. Земля была неровной, приходилось то и дело переступать через огромные сухие ветви, валуны и пни, поросшие лишайником.
– Что случилось? – спросила девушка, озираясь по сторонам.
– На колени, – неожиданно сказал Кадык.
– Что?
Ловким ударом под коленки он сбил ее с ног. Сгорбившись, обняв себя за грудь, она стояла перед ним, спиной, и сама невольно, будто специально, стянула с головы платок, обнажив в оттопыренном вороте тонкую нежную белую шею.
Пистолет был уже давно готов. Как сотни раз до этого, старый палач отступил на шаг, прищурился, приподнял руку. Прижав ладонь к лицу, поправляя волосы, боясь сделать резкое движение, она обернулась на него.
Отбросив собственную руку, он выстрелил в сторону. Это был глухой хлопок, с жадностью проглоченный елками. Никакого эха. Запахло серой. Бузя ахнула и затряслась, прижав к лицу обе руки.
– Ну?! – крикнул Кадык. – Чего смотришь? А ну пошла, беги, живо! Беги, кому сказал! – И, махнув пистолетом, выстрелил еще раз.
– Куда?!
– Давай, ну! Пошла! Пошла!
Девушка вскочила на ноги и помчалась, спотыкаясь, падая, поднимаясь и снова падая.
Кадык выстрелил ей вслед еще пару раз. Потом быстро вернулся к машине, завел мотор, быстро развернулся в три приема и изо всех сил, не жалея автомобильной подвески, помчался по дороге назад.
Вечерело. Солнце спряталось за почерневшими елками, и небо отливало желтым перламутром. Лицо и плечи покусывала прохлада.
Бузя заблудилась тут же. Запыхавшись, обессилев, давясь будто разреженным воздухом без всяких запахов, она упала на колоду, поросшую мхом. Пыталась плакать, но слезы казались уютной теплой эмоцией из прошлой жизни, уместной в другом каком-то мире. Это было другое измерение – со всех сторон наступали гигантские, в два обхвата, деревья, какой-то дикий, поломанный, множащийся многорядиями хоровод из елей. Понять, с какой стороны она сюда прибежала, казалось невозможным.
Эти суровые края страшили ее, еще когда она увидела их из окон поезда, когда за четыре дня пути пейзаж ни разу не изменился, не было и намека на человеческую жизнь, а ведь это вдоль железной дороги, а что тогда там, дальше – на сопках и за ними? Еще Бузя подумала, каким отчаянно храбрым должен быть тот, кто рискнул бы пробираться через эти безжизненные, глухие места. И потом уже, обжившись в лагере, с ужасом слушала рассказы вохровцев, ходивших летом в свободные дни куда-то аж к китайской границе за какими-то корнями.
Нужно было найти дорогу. Или хотя бы ту корягу, о которую она споткнулась, и от нее ходить потом кругами, постепенно увеличивая радиус – ведь бежала она не долго, минут пять, наверное, тут какой-то воздух гиблый, выдыхаешься моментально. Но коряг вокруг было несусветное множество. Вечерело. Ноги в новых туфлях слегка увязали в бурой хвое и мхах. Земля была мягкой и чуть влажной. Бузя села, прислонившись спиной к еловому стволу, вспоминая, как отец когда-то давно, еще дома, рассказывал, что деревья могут лечить, что когда что-то не так в жизни, то можно обнять ствол дерева и попросить о хорошем. Этот ствол был сплошь в обломанных мелких сучках – чтобы обнимать, пришлось бы стать на колени, и девушка пыталась как бы прочитать его спиной – уловить хоть какое-то живое древесное тепло, какую-то вибрацию – но все вокруг было мертвым, твердым, холодным, колюче-шершавым. И тишина… Зарывшись в хвою и мох, она заснула.
Проснулась от страха, из-за белых ночей неясно было, который час, но похоже на рассвет. Вскочила на ноги, задыхаясь, стала бежать куда-то, наобум, спотыкаясь, стукаясь о деревья, зажмурившись – чтобы не видеть бесконечности леса. Сильно хотелось пить, и вспоминались чьи-то слова: «Это гиблое место стоит на огромном магнитном щите, под землей – одна порода, как крышка от кастрюли, и потому воды тут нет, ни одного ручья, ничего тут нет, сколько ни долби». Светало – розовато-сероватый рассвет тонкой дымчатой щелочкой пробивался через опухшие веки. Потом солнце было в зените, потом переместилось вбок, и с тонким звоном, золотясь в косых лучах, завились комары. «Значит, где-то будет вода», – подумала Бузя и ускорила шаг. Но воды все не было – только липкая влажная жара, пот и комары. Казалось, что рельеф местности плавно поднимается, стало больше камней – больших и маленьких, россыпями наваленных между деревьями, словно кто-то специально сносил их сюда. Бузя подумала, что если выберется на вершину сопки, то, возможно, сможет оглядеться и увидит дорогу. И еще на горах всегда есть вода, все ручьи всегда стекают с гор.
Но вершины сопки не было и близко. Этот плавный, едва уловимый подъем начинал безнадежно напоминать подъем по самой округлости земного шара. Изабелла плохо знала географию – учиться в школе ведь не получалось. Начинались тем временем странные видения – там, между заступающими друг за друга древесными стволами, словно мелькали какие-то тени – то ли звери, то ли люди. Где-то вжикали и лязгали древесные пилы, и чаще, чаще, чем это бывает в жизни – с нарастающим треском, обрывая ветви, валились деревья, одно за одним, без передышки. Несколько раз слышался плеск воды – самая сладкая музыка на свете, журчание жизни, и Бузя бросалась на этот шум, и шум становился громче, к плеску добавлялись беззаботные человеческие голоса, звон ведер, жужжание моторного катера, как на подступе к пляжу у реки. Потом мерещился птичий свист и скрипящая патефонная музыка. Потом стало темно, и она заснула, пытаясь во сне сосать прохладную хвою под собой – высосать хоть немного влаги из нее. Когда проснулась – лицо и руки опухли, ремешки на туфлях впились в щиколотки. Пыталась жевать какие-то листья или слизывать с них росу – но росы не было. Вся роса, вся влага собралась микроскопической пылью в воздухе, мельче любого тумана.
Неожиданно вдалеке, на той полосе древесного хоровода, где Бузе беспрестанно что-то мерещилось, появился свет, да-да, определенно ровный бело-золотистый солнечный свет. И деревья росли реже! Она шла туда напролом, через камни и кусты, даже не замечая тонкой тропинки, которую пересекала несколько раз. Солнечный свет сквозь разломанные частоколы древесных стволов становился все ярче. Уже блестела густая, пахнущая серым камнем вода. Лесное озеро с дном из вечной мерзлоты. Стволы деревьев вырастали перед ней, как вертикальные черные линии. Воздух, наполненный водой, совсем не годился для дыхания. Во всем теле ощущались какая-то умиротворенная рыхлость, в распухших руках теплая ватная легкость.
Воды на поляне не оказалось. Но была сама поляна. Солнечная, без елок, с густой, влажно лоснящейся травой, стелющейся по ветру подобно мелкой водной ряби. Был какой-то навес, были навалены под навесом поленья, и стояла лесопилка, точно как у них там, в том старом дворе, где они жили когда-то с отцом, в купеческом доме с деревянным фронтоном, и два соседа становились за эту лесопилку, с длинной ржавой пилой, и пилили, почему-то каждый раз сильно ругаясь друг на друга.