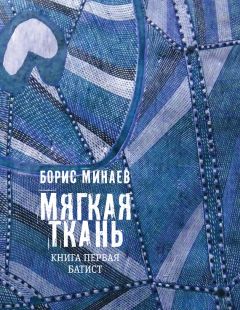Борис Минаев - Мягкая ткань. Книга 2. Сукно
Как сложно, пожимала плечами Вера, нельзя ли попроще, так что же все-таки является главной видовой особенностью, то, что я, еврейка по рождению, или что я на твоем языке, девушка, то есть молодая женщина, и то и другое, пожимал плечами в ответ доктор, сложно это как-то разделить, это одно понятие – ты еврейка, а для погрома это едва ли не главная история, а почему, почему, говорила Вера, объясни мне, что это значит, как это может быть, почему в наше время это происходит, этого я не могу тебе объяснить, отвечал доктор, иногда человечество идет не вперед, а назад, так бывает, это случайные шаги назад, случайные, несущественные, но в рамках истории они могут занять жизнь целого поколения, неужели ты искренне веришь, что история идет назад, я не верю, но послушай, я просто боюсь, пока мы здесь, ты должна это сделать, хотя бы для меня, доктор возвышал голос, и Вера замолкала.
Так она попала в группу еврейских девушек Яблуновки.
Впрочем, среди этой группы были, конечно, и молодые матери, и замужние дамы, которые готовы были оставить свой дом и мужей, такие шли в схрон вместе с детьми и даже младенцами, но их было совсем немного, бросать дома, имущество и мужей на произвол погромщиков никто не хотел, надежда на то, что женщину с детьми все ж таки пожалеют, еще оставалась, позднее Весленский долго думал над этим, что в этой последней надежде на святость домашнего очага, на неприкосновенность матери с детьми на руках, на неуязвимость материнского начала, что-то в этом было от наивной библейской веры, от житейского опыта, а что-то – от незнания, и пришел к выводу, что незнание сыграло тут все-таки главную зловещую роль, люди просто не могли поверить в то, что мать с детьми на руках убьют так же спокойно, изнасилуют так же просто, как и всех прочих. Если бы евреи действительно знали, как это бывает, но они не знали, они не верили, никакие волны погромов не могли их научить этому знанию – когда начинается погром, обычные правила жизни кончаются и начинаются правила совсем другие, но один урок они все же усвоили: девушки являются для мародеров такой же главной добычей, как золото, серебро и иные ценности; в этом была правда погрома, его высшая справедливость – не просто убить и разорить, а уничтожить совсем, именно для этого нужны были молодые девушки, чтобы горе стало великим, а последствия непоправимыми. Поэтому здесь, в Яблуновке, придумали такой выход.
Выход, на взгляд доктора, также был слаб и непрочен. И в Фастове, и в Киеве, и в Елисаветграде евреев подвергали страшным пыткам не просто так, забавы ради – всегда искали деньги, и точно так же могли пытать и выпытать местонахождение девушек, но бог миловал, и все кончалось каждый раз хорошо.
Еда, вода, свечи – все это в схроне было, в ограниченном, конечно, количестве, но пользоваться всем этим было нельзя – надо было тянуть до последнего, ну во-первых, из гигиенических соображений – еда привлекала крыс, вода была драгоценна, огонь пожирал свежий воздух, если кто-то хотел по нужде, нужно было идти как можно дальше по коридору, что было страшно и к тому же несколько противно, поэтому никто тут не ел, не пил, свечей не жег, сидели или лежали на подстилках в темноте, и днем и ночью, что было совершенно все равно, вся надежда была на мастериц рассказывать, на художественное слово, и если до появления Веры были рассказаны все известные в Яблуновке истории про графа Милорадовича и его страшные обычаи забирать невинные души, пить живую кровь и все такое прочее, то после появления Веры начались просьбы рассказать что-то другое, чему вас там научили, и Вера, немного поупрямившись, начала с древнегреческих мифов, потом продвинулась к Гомеру, затем перешла к рыцарским и прочим средневековым историям, а закончила на Дон-Кихоте. По дороге, конечно, приходилось пояснять, сколько в Петербурге у них было комнат, и как она познакомилась с доктором, и какие в гимназии учителя были ничего, а какие противные, и сколько же пришлось отдать денег, чтобы попасть в эту самую гимназию еврейской девушке, и правда ли, что в Петербурге сейчас носят вот так и вот так, но все-таки основное течение не прерывалось, и хотя многое приходилось объяснять – и кто же такие эти ахейцы, и почему Медея должна была убить собственных детей, и зачем прекрасные дамы не выходили замуж, что же именно этому могло помешать, иногда у Веры пересыхало горло и ей давали немножко попить, а иногда она уставала, а еще иногда, уже привыкнув к темноте, она вдруг видела, что вокруг нее почти все заснули, а которые поодаль, те тоже молчат и их не слышно, вот эти-то моменты были самые ее любимые, и пожалуй, именно ради них, а не из страха или из послушания, она шла сюда. Страх не был главной причиной, умереть Вера была готова, готова давно, она считала, что во время погрома надо умереть быстро, но она считала также, что умереть быстро – это всего лишь дело сноровки и ума, но даже если смерть будет мучительна, все равно это будет смерть, пусть медленная, но смерть, и не в этом дело, гораздо больше она боялась потерять своего Весленского, и ходила она в пещеру все-таки потому только, что ей было любопытно, до какой-то крайней степени любопытно пережить все это, и вот здесь, вот в эти тихие минуты, она действительно вдруг ощущала то, зачем сюда приходила. От еврейских девушек шло сияние, или свечение, она не знала, как лучше сказать, но она видела его абсолютно ясно, в темноте оно было то розовым, то каким-то перламутровым, слабым, но оно точно было, оно не было выдумкой или мифом, она видела, как светились лица, глаза, руки, как сам воздух наполнялся этой эманацией, этим веществом духа, и она пыталась понять, что же это такое, вот они сидят, как загнанные на насест курицы, в темноте, голодные, замерзшие, стучат зубами от страха, в плохом, даже вонючем воздухе, но все равно есть это свечение, откуда оно, это, может быть, сияние девственности, женского начала, в которое Вера не совсем верила, или все-таки это что-то другое – предчувствие жизни, той жизни, которая таится в лоне, и она опять вспоминала эти слова, что родить – это была бы хорошая мысль, и опять беззвучно смеялась.
Девушки были очень разные, далеко не всех Вера знала по имени, но ее знали все, одни были миловидные, другие совсем некрасивые, какие-то даже уродливые, были тонкие и толстые, были косые, были наглые, одни смотрели на нее довольно злобно и молча, другие старались понравиться и были добродушны, в том, что их всех загоняли сюда, вглубь пещеры, было даже что-то унизительное, как будто бы они не совсем люди, люди должны были страдать, терпеть, убегать, ждать, то есть как-то действовать, их же складывали сюда аккуратно, как устриц в корзину, потому что в каждой устрице была жемчужина, верней жемчужины пока не было, но была такая возможность. Собственно, их всех объединяла эта физиологическая возможность, этот механизм – пережив боль, что-то отдать в мир, раскрыть створки, с треском и болью. Пытаясь постичь этот парадокс, Вера думала о Весленском, ведь она тоже переживала не только радость, но и боль, когда он входил в нее, это было порой мучительно, особенно на первых порах, все-таки мужчины это что-то ужасное, даже в таком благородном варианте, что же говорить о неблагородных, но именно от них берутся жемчужины, именно они заносят этот песок внутрь, господи, ну неужели это и есть загадка жизни, о которой она прочитала столько книг, сопоставляя эту смерть (погром) и эту жизнь (родить от Весленского – это была бы хорошая мысль, устрицы, курицы, в общем вот это все), – Вера понимала, что, пожалуй, ответ правильный, потому что подлинным ответом на погром, на это мужское гнойное смертельное зверство, могла быть только жизнь. Не месть, не ответный удар, не ответные казни и пытки, не разрушение их семей до седьмого колена, не смерть их матерей и их детей, нет, а именно – спасение жизни. Это был наиболее сильный ответ.
Погружаясь в это слабое свечение, которое окружало спящих девушек в те редкие минуты, когда они отдыхали и не просили ее говорить, рассказывать, забалтывать страх, Вера вдруг понимала, что евреи и тут нашли правильный ответ.
Продолжение рода и расселение, распространение своего семени на их земле – только это могло быть ответом.
Мы будем жить, думала Вера, мы будем жить, а вот вы – вы все умрете.
Однажды Вера все-таки отказалась идти в пещеру.
Одной из причин было то, что «Дон-Кихота» она уже рассказала, а что рассказывать дальше – пока не придумала. Все варианты, которые крутились в голове, казались ей неподходящими – Золя, Мопассан, Флобер, может быть Диккенс? – нет, все это было не то, она хотела идти к Эфросам, чтобы посмотреть их библиотеку, но постеснялась, и кроме того, была и еще причина – девушки все настойчивее спрашивали ее о таинствах брака, им страшно хотелось знать, как это происходит, кто же еще, как не жена доктора, должен был им все это рассказать. Но Вера упорно отказывалась говорить о том, что происходит в постели, ей было стыдно, мучительно, она краснела в темноте и отнекивалась, переходя на книги, постепенно это стало заметно, кое-кто начал над ней подшучивать, тихо, но внятно, а может быть, у вас ничего нет, может быть, ты соломенная вдова, может быть, у тебя невестина болезнь, ты не можешь, ты не позволяешь ему, может быть, ты порченая, может быть, ты не такая как все, почему, зачем ты молчишь, все это порой говорилось по-еврейски, но Вера все равно понимала, эту интонацию ни с чем нельзя было перепутать, она погружалась в этот стыд с ужасом, потому что ей нечего было стыдиться, но она физически не могла подобрать слова. Может быть, рассказать им «Мадам Бовари», думала она, но и это не подходило, они все равно припрут ее к стенке и потребуют ответа, самые добродушные шикали на злых, но злые побеждали, этого нельзя было никому рассказать, ни Весленскому, ни их матерям и отцам, ей казалось, что когда-нибудь они просто разорвут ее на части от любопытства, она их уже боялась, в них вселился какой-то дьявол.