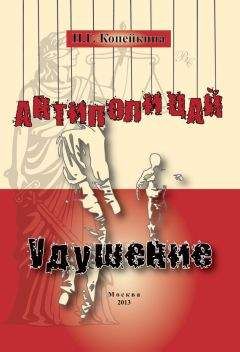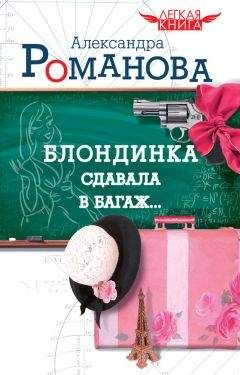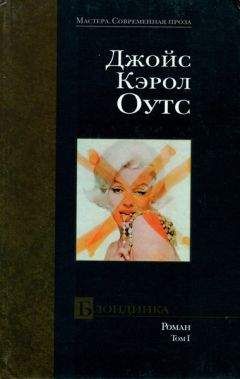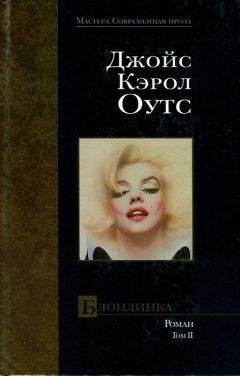Николай Семченко - Соглядатай, или Красный таракан
– Сергей, ты подработать хочешь?
Юрин вопрос прозвучал так внезапно и таким диссонансом с моими мыслями, что я даже вздрогнул и пролил чай на салфетку.
– В театре не хватает художников, – продолжил Юра. – На носу сдача спектакля, а половина декораций не готова, бутафорию, опять же, некому работать…
– А куда это все подевались? Как в вашу мастерскую не зайдёшь – повернуться негде: столько народа!
– Кто в кооператив подался, кто своё предприятие открыл, кто дизайном интерьеров занимается – на это у «новых русских» мода пошла. Не знаешь, что ли?
Деньги мне, конечно, нужны, но, с другой стороны, совсем не хочется делать то, к чему душа не лежит. Да и работа у меня есть солидная и срочная: сделать эскизы обложек книг – серия должна иметь свой фирменный вид, чтобы сразу узнавалась по ритму рисунка и цветовой гамме.
– Нет, сейчас не могу, – сказал я. – Халтура, она и есть халтура: времени потратишь много, а удовольствия – ноль…
– И не говори! – хохотнул Юра. – Иную тёлку обхаживаешь, воздыхаешь, цветочки ей носишь, а как дойдёт до дела – полный облом, никакого кайфа: пресно, скучно, без фантазий…
– Ну, ты в своём амплуа! Герой-любовник, блин! Но ассоциация правильная…
– А то! – хмыкнул Юра. – Я уже давно поверяю искусство сексом. По большому счёту и то, и другое – акт творения.
– Красиво говоришь, брат!
– Люблю всё красивое…
– Да уж… Послушай, ты своего Уитмена когда сделаешь? Уже не меньше года возишься, так?
Это такая длинная песня, брат! Я и не подозревал, что всё так сложно. Если бы это была халтура, то, наверное, и месяца хватило.
– Значит, хочешь сработать так, чтоб все сделали: а-а-ах!
– Ну да, хочу, чтобы поняли: Уитмен – это поэт!
Юра краем глаза поглядел в зеркало. Что за страсть у этих актёров видеть себя со стороны! Ловят своё отражение в оконных стёклах, металлических шарах, витринах и, наверно, даже в гадких городских лужах с разводами бензина. Им важно знать, сохранилось ли то выражение, которое запрограммировано на сегодня. А может, всё проще: актёр любит всяческое отображение, в том числе и своё собственное? (Красиво говоришь, брат! И непонятно! – Разве? – А ты вчитайся в текст… – Кто хочет, тот поймёт! – При том условии, если автор сам себя понимает… – Да никакой я не автор! Может, я для себя пишу. – Ой ли?) Театр, как-никак, – это условность, отображение реальности, игра воображения на конкретном материале.
– А тебя не смущает, что Уитмен – элитарный поэт? – спросил я.
Божественный Уолт – мой кумир, и я его очень люблю, а может, и не его самого, а Корнея Чуковского, который перевёл его на русский язык – странный, завораживающий ритм, магия простых слов, полифония звуков, бездна мыслей и чувств – нет, скорее, чувств, которые двигают мысль…
– Он не то чтобы элитарный, – задумчиво сказал Юра и пощёлкал пальцами, – он просто малознакомый поэт, и к тому же вне канонов и табу классической поэзии. Он любил всё, что есть на Земле, и, подозреваю, знал лишь любовь к человеку – —без различения по полу…
– Бисексуал, что ли? – грубо перебил я.
– Да нет, не в сексе дело, – сказал Юра. – Понимаешь, у меня такое ощущение, что он был одновременно и мужчиной и женщиной, и охотником и добычей, могучим дубом и крошечной былинкой. Он умел всё видеть, понимать и чувствовать. Вот почему я пока не могу прочитать его так, чтобы все сказали: «Да, это – Уитмен!»
– Ещё прочитаешь, – ответил я. – Если ты это сумел понять, то поймёшь и как его прочитать…
Мой взгляд непроизвольно упёрся в стену, на которой ещё совсем недавно висел натюрморт с розами и зелёными лимонами, начинающими желтеть. И мне было жалко не столько картину, сколько холст и раму. К тому же, натюрморт довольно удачно закрывал собой бурые пятна на стене.
– Наверно, этих домушников никогда не найдут, – сменил я тему разговора. – Квартирные кражи почти не раскрываются, а если и раскрываются, то что толку? Воры уже сбыли вещи с рук…
– Что об этом думать? – Юра бесшабашно махнул рукой. – Пусть подавятся наворованным!
– Что-то ты не очень переживаешь, – заметил я. – Будто и не горбатился, чтобы купить то, что у тебя унесли…
– А! – засмеялся Юра. – У меня в башке другое. Познакомился с такой девчонкой – закачаешься!
– Сексозавр, – сказал я. – Ты – сексозавр!
– Да пошёл ты! – огрызнулся Юра. – Девчонка – класс! Семён Завадский вчера уехал во Владивосток, оставил мне ключи. Есть куда девчонку привести. У нас с ней свиданка у главпочтамта через час, а ещё чрез час: трали-вали, тра – ля-ля! Вот он, ключик-то!
Юра помахал яркой рыбкой-брелком. И в ту же секунду я рещил, что его нужно проучить: пусть не связывается с первой попавшейся тёлкой. (Ха! Какой ты высоко моральный, однако… – А тебе какое дело, ехидна? – Забавно. Потому что причина твоего… – Молчать! – Как прикажешь. А взбеленился-то чего? Разве причина совсем-совсем другая? – Да замолчишь ты, ботало, или нет?)
Когда он ушёл, я, помедлив, накрыл носовым платком телефонную трубку и набрал номер домашнего телефона Юры. Алла ответила сразу:
– Алло? Кто это?
Я сразу её огорошил:
– Ну что, сидишь? А твой благоверный время даром не теряет.
– Что вам надо?
– Подойди сейчас к главпочтамту, сама его девчонку увидишь. У них свиданье в шестнадцать – ноль ноль. Девочка экстракласс, но, смотри, как бы твой муженёк СПИД не подцепил…
– Кто это? – голос Аллы задрожал. – Зачем вы меня разыгрываете?
– Клуша! – разозлился я. – Оторви задницу от дивана и пойди убедись, разыгрывают тебя или нет. Да, смотри, не проболтайся, что получила информацию от доброжелателя. Иначе больше ни о чём не проинформирую…
Я положил трубку, снял с неё платок и рассмеялся.
Из записок Марии Платоновны
…Вахман повёл меня дворами Большого завода в бункер к врачу. Я шла медленно, спотыкалась, останавливалась, изображая из себя больную.
Врач осмотрел меня, послушал сердце и пожал плечами:
– Ничего опасного. Сердце в норме. Пусть идёт работать.
– Переживает, наверное, – сказал вахман. – Хочет домой.
– Скоро поедет, – ответил врач и обратился ко мне: Война – капут, ты – к маме, ферштейн?
– Не понимаю, – я тупо уставилась на врача. Мне хотелось ещё хоть немного потянуть время. Лишь бы не делать снаряды, которые убивали наших солдат.
– Скоро домой, – повторил врач. – Мама – хорошо, война – плохо!
Я уже вполне понимала немецкий язык, но делала вид, что не знаю, о чём со мной говорят два моих врага.
– Ведите её обратно, – сказал врач. – Валидол я ей дал. Этого достаточно.
– Пошли! – скомандовал вахман.
О, как меня угнетал цех! И я никогда не думала, что с горя можно петь. Теперь-то знаю, что через песню выливается избыток горя так же, как веселье.
Мы с девушками выходили на угол своего барака, садились на траву и когда после воспоминаний о родных сёлах, родителях, братьях и сёстрах к горлу подступал тяжёлый, плотный комок, я первой тихонько запевала:
– За горами горы высоки,
Меж горами солнышко блестит,
Далеко мой милый от меня…
На Украине эту песню тогда хорошо знал и стар, и млад – все пели. Девушки подхватывали её, и мы пели долго-долго, пока вахманы не начинали сердиться:
– Песня – капут! Ферштейн?
Возле наших бараков встали лагерем солдаты с зенитными пушками. Как только мы начинали петь, они вылезали из своих окопов и слушали нас. На песню «Москва майская» солдаты реагировали хором:
– Москоу капут!
– Брешешь, зараза, Москва никогда не капут, это вам – капут! – кричала Таня Ященко.
– Москоу капут! – дразнили нас солдаты и хохотали. – Шталин – капут!
– Гитлер – капут! – отбивались мы.
– Та-та-та! – солдаты изображали стрельбу пулемёта. – Та-та-та!
– Всем вам капут! – отвечали мы и, гордо подняв головы, демонстративно уходили в свой барак.
Солдаты хохотали и ещё долго громко дразнили нас:
– Москоу капут! Сталин Капут! Коммунизм капут!
Мы старались не обращать на них внимания.
На работу и с работы мы ходили колоннами. Чуть засереет рассвет, а нас уже гонят на завод. Истощённые, мы шли, как в полусне: склонимся головами друг к другу на плечи, возьмёмся под руки и переставляем ноги, как лунатики. На ногах у ребят гремели гольцшуге: трах – тах-тах-тах! А у девушек были шлепанцы на деревянной подошве; споткнёшься – и они летят в сторону, пока оденешь шлёпанец, всю колонну задержишь. Вахманы ругаются, кричат.
Чтобы отогнать от себя сон, начинаешь что-нибудь тихонько напевать. Вполголоса Сима песню подхватит, а за ней – другие девушки. И вот уже наша колонна всё дружнее вытягивает:
– По военной дороге
Шёл в борьбе и тревоге
Боевой восемнадцатый год…
Под песню легче подобрать ногу, шаг становится бодрей, и вахманы уже не кричат нам своё «шнель!»