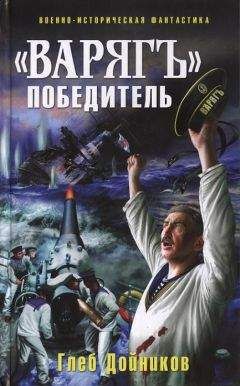Василий Аксенов - Оспожинки
– Нигде ж ни облачка.
– И чё?
– Что дождь-то будет, не похоже.
– Днём, может, нет, а к ночи-то направится.
– Не предвещает.
– Хе, увидишь.
– А медовуха у тебя, дядя Вася, – спрашиваю, – есть?
– Хошь и пока яво не надо бы. Зачем нужон он?.. Всё лето лил, не унимался – не стосковались… Нет, – сделал шаг, опять остановился. – Сам года два уже не пробовал. Забыл, как пахнет… Бражку не ставил бы, имейся медоуха. И самогонку бы не гнал – возни с ней стока. Рамы, ишшо какие оставались, выварил, воск за копейки сдал монахам в городе – скупые… Пчёл-то там горстка на весь улей, и в кажном так, едва шавелюцца, в зиму себя бы обеспечили, и ладно, но это вряд ли, сомневаюсь… Скоро и вовсе изведутся… Да уж скорей бы. Но. То ни со пчёлами и не без их… Одно названне – пчеловодим… одне затраты.
– Мёду немного-то хоть накачал? – спрашиваю. – Ага. Кого там… Накачашь тут… Ни одной тёплой ночи, – говорит дядя Вася, – за всё лето не выдалось. Чтобы нектар-то был, нужны идь, паринь, паруны. А оне были?.. Нет. Ну, мнукам тока на гостинцы. Зайдёте, к чаю-то найду. Маленько есь ишшо, храницца… Да и отрава идь везде, не то что раньше… Ну, дак чё… это… до свидання.
– До свиданья.
– То чё-то… но, идти пора мне… Сироп давал им до июля, и уйму сахару извёл – подразорился… А дож-то будет – воздух влажный.
Разминулись.
Дошли мы с Машей до околицы.
И здесь дома раньше стояли. С дореволюционной ещё, наверное, эпохи. Два двухэтажных. С ровных, как карандаши, листвяжных брёвен. Я их, дома эти, помню. Не знаю только, когда их разобрали и увезли, также не знаю, и куда. Теперь просторно. Для крапивы. Кто-то из городских, наверное, из дачников, польцо, огородив его колючей проволокой, вспахал себе тут под картофель; ещё не выкопан. Деревни убыло, околицы прибавилось.
Дальше – через неглубокий лог с пересохшим, несмотря на дождливое, заканчивающееся уже лето, ручьём, по руслу которого растёт осока и тальник, а по берегам высились когда-то красивые вековые кедры, теперь их нет, спилили, может быть, – и затем в гору с именем Могильная.
Издалека заметно кладбище – распознаётся, как типичное. На пологом – под самой маковкой горы – склоне, обращённом к Ялани, Камню и восходу, пестреет оно сквозь тёмные стволы деревьев – елей в основном и пихт, и, реже, кедров – серебристыми тумбами, крестами чёрными и жёлтыми и разноцветными оградками.
Бывал на нём я. Когда-то, первый раз, из любопытства. Чтобы проверить, правду ли говорят, что блуждают ночью между могилами и светятся души-плачки неутешные – или они, или гнилушки? Не обнаружил. Пришёл в сумерках, а убегал, струсив, затемно. И во второй раз, когда хоронили одноклассника, Сашу Черемных, которого убило электрическим током. Повис он на проводе подмышками, в обледенелых от снега на морозе телогрейке и штанах, скатываясь с крутой крыши колхозной молоканки в глубокий сугроб – не в ту сторону поехал, то есть, не в ту, в которую катались остальные. Провожали его, отличника и единственного сына одинокой женщины – не то тётки Матрёны, не то тётки Марфы, уже и не помню – всей школой. Я за оградой простоял тогда – боялся, что увижу, как закапывают в промёрзшую глину недавно ещё живого товарища, и никогда уже этого не забуду, спать после долго не смогу, а то, что рисовало мне моё воображение, надеялся, сотрётся. Хоть и не сразу, но другим затмится после – стёрлось. А в памяти моей Саша Черемных остался тихим, прилежным мальчиком за школьной партой, с кружком волос седых над правым ухом – было пятно родимое такое у него. Было и есть, наверное, раз в памяти моей хранится.
– А вон и кладбище.
– Я догадалась.
– Этой вот, – говорю, – дорогой… она не так тогда, конечно, выглядела, её тогда и вовсе ещё не было, конечно, тропа, наверное, была… этим путём пришли сюда с запада, здесь говорят – с России, первопроходцы… казаки. Волок тут был. С Кети – приток Оби такой – на Кемь.
– Да? – говорит Маша. – Самые первые…
– Ну, Обь вы знаете.
– Конечно…
– А по Кеми уж до Ислени.
– В какое это было время? А волок?..
– Волок – это волочить…
– Так и подумала. Конечно.
– В разлив, по полой, большой воде шли на стругах до Кеми по малым речкам… А тут прямик был, зимник до сих пор… В начале, – говорю, – семнадцатого века. А монахи ещё раньше, в конце шестнадцатого, появились здесь… а может, даже с середины. Умирали, – говорю, – первые поселенцы, и несли их хоронить в ту сторону, откуда они прибыли… До родины не доносили.
– Да, символично… А до этого здесь люди жили?
– До русских?.. Кеты… остяки.
– А я о них даже не слышала… Тайга такая…
Интересно.
– Глушь?
– Нет, не об этом я… Охотой занимались?
– Да. И рыбалкой.
– А где теперь они? Остались?
– Остались. Но их и раньше мало было. Мало их и теперь. Около тысячи, не больше. Тут, на Ислени, ниже по течению. И по притокам.
Гора пологая. Но длинная. Дождей пока, с неделю может, не было – подсохло. Но всё равно – и тут идём мы по обочине дороги. Вся как в окопах – колеи; не колеи, а настоящие траншеи.
Дошли, останавливаясь и оглядываясь на Ялань и нависающий над нею Камень – тот в синей дымке.
– Красиво, – говорит Маша, рукой прикрыв глаза от солнца.
– Да, – соглашаюсь не без радости.
– Величественно… Будто во времени застыло. – Так только кажется. Но я бы был не против этого, на время пусть бы и застыло, пока я жив…
– Не так меняется, как вы хотели бы?
– Вот именно.
– Вы о Ялани?
– И не только… Слово ялань опушку означает, чистое место среди леса. Вышли из ельника сюда первопроходцы, ялань увидели, облюбовали, острог поставили, вокруг село потом настроилось… Яланью стало называться… Вон стены церкви, – говорю. – Белеют. Видите?
– Да. Жаль, – говорит Маша, – что только стены. Я возле них уже стояла… сегодня утром. Наши события напоминают мне… Печально.
– Да, жаль, конечно… И печально.
Открыл я двухстворчатые воротца. Вступили.
Я – первым. Маша – следом. Я – нет. Маша – крестится. Молитву тихо, слышу, прочитала.
Кладбище запущено. Как будто всех, кто здесь когда-то рядом жил, уже давно похоронили и их никто уже не помнит. Следят за редкими могилами – своей ухоженностью эти лишь и выделяются.
Под большим, усыпанным в кроне шишками, кедром, скрыв его толстый комель, громоздится куча из старых, но неувядаемых венков, которые и до всеобщего Воскресения товарный вид, наверное, не потеряли бы. Да вот сожгут их, эти венки, следующей весной, в родительскую субботу, а заодно и погуляют, тризну справляя, здесь изрядно те, кто придёт из Ялани пешком или приедет на машинах из других мест, из Елисейска в основном, навестить усопших родственников – всех их встревожат; день этот у покойников нелёгкий.
Полусгнившие и покосившиеся деревянные кресты на низких, едва уже различимых холмиках виднеются и в глубине густого ельника – век им, наверное, не меньше; нет никого уже на белом свете, кто мог бы привести в порядок эти могилы, если и есть, живы ещё, – родство забыли.
– У вас так же? – спрашиваю у Маши севшим вдруг голосом, уверенный в том, каким будет ответ.
– Нет, – говорит. И продолжает неожиданно: – У нас такого леса нет. Он тут как джунгли – наступает…
Молчу я. Маша:
– Не отбиться.
Помолилась, замечаю. Крестится. Я не могу.
Был бы один, перекрестился бы. При этом чувствую себя предателем.
Тихо. Даже и птицы, обитающие здесь, перелетая с дерева на дерево, сейчас молчат – с утра напелись.
– Здесь, – говорю, – и мои предки по материнской линии лежат.
– Где их могилы, покажите, – говорит Маша.
– Рад бы, – говорю. – Да не знаю. Бабушка с дедушкой похоронены на Крайнем Севере, в вечной мерзлоте… А прадеды – их и могилок уже не отыщешь – с землёй сравнялись. Так у нас с этим.
Продираясь сквозь цепкие заросли шиповника и малинника, обошли мы вдоль и поперёк часа за два всё кладбище. Где же тут что найдёшь. Хоронили, как говорит Василий Серафимович, раньше и от других я это слышал, военнопленных с краю – мы все края и навестили. Там уж и вовсе заросло всё. Кресты в траве ещё увидеть можно – и те упали и истлели, тронь их – рассыплются; холмики в землю уже вмялись – время вдавило их или сиротство.
Утомилась, вижу, Маша. На красивом её носу, как бисер, сверкают мелкие, среди таких же мелких точек тёмно-коричневых веснушек, капельки пота.
– Может, хотите отдохнуть? – спрашиваю.
– Это сердечное… отпустит, – говорит Маша. Сели, войдя в оградку, на разные скамеечки, друг против дружки, за устеленный нападавшей на него кедровой, еловой и пихтовой хвоей столик купца-золотопромышленника Стародубцева, умершего и похороненного в августе тысяча девятьсот двадцатого года. Гранитный памятник ему поставлен. Тогда ещё, наверное, в двадцатом. Приезжали недавно из Америки, рассказывал мне Нестеров Володя, потомки этого купца, расколотое – не кем-то, а само по себе – надгробие обновили и деревянную, завалившуюся уже, ограду заменили на металлическую. Что же они, бывшие русские люди, а теперь иностранцы, подумали, увидев это кладбище? Ну – и Ялань, место рождения и жительства их предка?