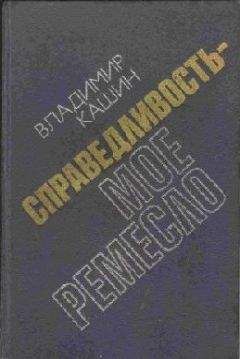Екатерина Марголис - Следы на воде
При свиданиях я обнаруживала на ее тельце синяки. Никогда не забуду, как, цепляясь за мою шею, она исхудалой ручонкой показывала на дверь и стонала: «Мамыця, домой!» Она не забывала клоповника, в котором увидела свет и была все время с мамой.
Тоска маленьких детей сильнее и трагичнее тоски взрослого человека.
Знание приходит к ребенку раньше умения. Пока его потребности и желания угадывают любящие глаза и руки, он не сознает своей беспомощности. Но когда эти руки изменяют, отдают чужим, холодным и жестоким, – какой ужас охватывает его и как не хватает ему умения выразить этот ужас.
Ребенок не привыкает, не забывает, а только смиряется, и тогда в его сердечке поселяется тоска, ведущая к болезни и гибели. Тех, для кого в природе все ясно, все расставлено по местам, может шокировать мое мнение, что животные похожи на детей, и наоборот – дети на животных, которые многое понимают и много страдают, но, не умея говорить, не умеют и просить пощады и милосердия. Покоряясь неизбежному, дети умирают еще более стоически, чем Цезари и спартанцы, Космодемьянские и Матросовы.Маленькая Элеонора, которой был год и три месяца, вскоре почувствовала, что ее мольбы о «доме» – бесполезны. Она перестала тянуться ко мне при встречах, а молча отворачивалась. Закусив губенки недавно появившимися зубами так, что на подбородок стекали капельки крови, она тихо лежала в своей кроватке, ни о чем уже не моля и ничего не желая.
Только в последний день своей жизни, когда я взяла ее на руки (мне было позволено кормить ее грудью), она, глядя расширенными глазами куда-то в сторону, стала слабенькими кулачками колотить меня по лицу, щипать и кусать грудь. А затем показала рукой на кроватку. Вечером, когда я пришла с охапкой дров в группу, кроватка ее уже была пуста. Я нашла ее в морге голенькой, среди трупов взрослых лагерников. В этом мире она прожила всего год и четыре месяца и умерла 3 марта 1944 года.
Я не знаю, где ее могилка. Меня не пустили за зону, чтобы я могла похоронить ее своими руками. Я очистила от снега крыши двух корпусов дома младенца и заработала три пайки хлеба. Я отдала их, вместе со своими двумя, за гробик и за отдельную могилку. Мой бесконвойный бригадир отвез гробик на кладбище и взамен принес мне оттуда крестообразную еловую веточку, похожую на распятие.
Вот и вся история о том, как я совершила самое тяжкое преступление, единственный раз в жизни став матерью.
Из воспоминаний Хавы Волович (арестована в 21 год, провела в ГУЛАГе 16 лет)Какой уже век в муках рождалась и так и не родилась свобода: архипелаг ГУЛАГ распался на метастазы, проникшие в русскую жизнь и сознание. Абсурдная арифметика, в которой единица – ноль, царит в головах и главах – от детского сада до больницы. В российских колониях заключенные женщины по сей день рожают, чуть ли не прикованные к койкам, а их детей все так же привязывают колготками к горшкам в детских бараках. Нынешние детские дома – все те же закрытые от посторонних глаз зоны общего режима для самых маленьких. С евроремонтами, но без проблеска жизни, они продолжают пополняться сотнями тысяч безымянных узников. А предбанники реанимаций? «В страшные годы ежовщины я провела семнадцать месяцев в тюремных очередях…» Часы окаменелого ожидания перед «отделением интенсивной терапии», куда по сталинским законам до сих пор не допускают родных, обреченных сидеть и ждать в коридоре, пока вдруг не выйдет врач и не процедит «состояние стабильное, тяжелое, без изменений…» и, если повезет, добавит пару фраз. А то еще: «Идите, женщина, домой. Вы мешаете работать…» Куда идти? В нескольких метрах за стеной обмотанные трубками самые любимые – взрослые ли, дети, чья вина состоит только в том, что им выпало родиться и заболеть в империи, они уходят в ужасе одиночества и наготы, не увидев родного лица, не держа никого за руку… По какую сторону государственных границ находимся мы, здоровые, живые, на этом фоне кажется уже почти условностью. Наше сознание фрагментарно. Оно легко делится на зоны. Зона комфорта порой не менее страшна, чем иные зоны. Ни заборы «детских учреждений», ни венецианский туман, ни московские снега, ни собственное воображение не должны мешать видеть и знать.
Казалось бы, при чем тут Лёва? Ведь рак не знает границ и режимов. И все же Хурбинек–Элеонора–Лёва – звенья одной страшной цепи несвободы.
В Лёвином боксе лежит семейный альбом с фотографиями. Фотографии там двух видов: дети при выписке из роддома и затем мама Юля навещает детей в Доме ребенка. Домашних фотографий нет вообще. Только одна: полутемная кухня то ли в избе, то ли в бараке. Голые доски стола, на столе сидят чумазый годовалый малыш и папа, который кормит его с ложки из алюминиевой миски. Детство Лёвы. Вспоминается Достоевский: «…бедность не порок… Но нищета, милостивый государь, нищета – порок-с. В бедности вы еще сохраняете свое благородство врожденных чувств, в нищете же никогда и никто…»
Но если что из внутренней нищеты понемногу вытянет, то, конечно, не умножение, а деление – на всех и каждого. Не месторождения нефти и не запасы ископаемых, а словарный запас. Память и правда, хранящиеся в его недрах.
Язык мой, приисковый грубый язык, был беден, как бедны были чувства, еще живущие около костей. Подъем, развод по работам, обед, конец работы, отбой, гражданин начальник, разрешите обратиться, лопата, шурф, слушаюсь, бур, кайло, на улице холодно, дождь, суп холодный, суп горячий, хлеб, пайка, оставь покурить – двумя десятками слов обходился я не первый год. Половина из этих слов была ругательствами. <…>. Но я не искал других слов. Я был счастлив, что не должен искать какие-то другие слова. Существуют ли эти другие слова, я не знал. Не умел ответить на этот вопрос.
Я был испуган, ошеломлен, когда в моем мозгу, вот тут – я это ясно помню – под правой теменной костью – родилось слово, вовсе не пригодное для тайги, слово, которого и сам я не понял, не только мои товарищи. Я прокричал это слово, встав на нары, обращаясь к небу, к бесконечности:
– Сентенция! Сентенция!
И захохотал.
– Сентенция! – орал я прямо в северное небо, в двойную зарю, орал, еще не понимая значения этого родившегося во мне слова. А если это слово возвратилось, обретено вновь, тем лучше – тем лучше! Великая радость переполняла все мое существо.
– Сентенция!
– Вот псих!
<…>
Чувство злости – последнее чувство, с которым человек уходил в небытие, в мертвый мир. Мертвый ли? Даже камень не казался мне мертвым, не говоря уже о траве, деревьях, реке. Река была не только воплощением жизни, не только символом жизни, но и самой жизнью. Ее вечное движение, рокот неумолчный, свой какой-то разговор, свое дело, которое заставляет воду бежать вниз по течению сквозь встречный ветер, пробиваясь сквозь скалы, пересекая степи, луга. Река, которая меняла высушенное солнцем обнаженное русло и чуть-чуть видной ниточкой водной пробиралась где-то в камнях, повинуясь извечному своему долгу, ручейком, потерявшим надежду на помощь неба – на спасительный дождь. Первая гроза, первый ливень – и вода меняла берега, ломала скалы, кидала вверх деревья и бешено мчалась вниз той же самой вечной своей дорогой…
<…>
Сентенция. Пусть так переименуют речку, на которой стоял наш поселок, наша командировка «Рио-рита». Чем это лучше «Сентенции»? Дурной вкус хозяина земли – картографа ввел на мировые карты Рио-риту. И исправить нельзя.
Сентенция – что-то римское, твердое, латинское было в этом слове. Древний Рим для моего детства был историей политической борьбы, борьбы людей, а Древняя Греция была царством искусства. Хотя и в Древней Греции были политики и убийцы, а в Древнем Риме было немало людей искусства. Но детство мое обострило, упростило, сузило и разделило два этих очень разных мира. Сентенция – римское слово. Неделю я не понимал, что значит слово «сентенция». Я шептал это слово, выкрикивал, пугал и смешил этим словом соседей. Я требовал у мира, у неба разгадки, объяснения, перевода. А через неделю понял – и содрогнулся от страха и радости. Страха – потому что пугался возвращения в тот мир, куда мне не было возврата. Радости – потому что видел, что жизнь возвращается ко мне помимо моей собственной воли.
Варлам ШаламовГлава пятая
Край света
Значит, все-таки остаться? Оставить след?
В языке есть грамматическая форма: остаться чем-то. Стихами, словами, дождем, травой, ветром… У Лёвы три рисунка: «Зубы» (ломаная линия идет через весь лист), «Прыщики» (кружочки и внутри точки) и «Пингвины: какие с головами, какие без» (название авторское). Он останется ими?
Время в боксе почти не идет. Но во внешнем мире оно несется. Мне надо идти. Несколько раз пытаюсь встать.
Лёва, который за мгновение до этого мирно спал, открывает глаза:
– Ты куда? Не уходи.
– Я думала, ты спишь.
– Нет, я просто кемарю.
Снова закрывает глаза и засыпает.