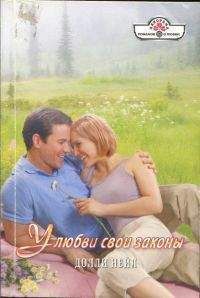Марк Берколайко - Фарватер
И вновь какая-то нелегкая повлекла Павла на мол, но доковылял он, когда «Корнилов» уже отработал «малый назад», миновал маяк и разворачивался, ложась на курс к чужим берегам. Поникший в безветрии андреевский флаг, в нахлынувших сумерках едва угадываемый, описывал прощальный полукруг над свинцовой водой и, словно отдавая флагу последние почести, контрразведчик стоял навытяжку, приложив кисть к краю фуражки. Но это не выглядело готовностью драться и побеждать, локоть не держался молодецки на уровне погона, а рука, отяжелевшая от беспробудного пития, почти повисла. Да и лицо, ткани которого переполнились горячительной влагой, словно стекло к шее, образовав брыли приунывшего бульдога, понявшего вдруг, что легендарная его хватка никому и ни для чего больше не потребуется.
Павла, однако, подполковник встретил показно бодро.
– Явились, фендрик? Честь можете не отдавать, приберегите ее для ваших шефов-комиссаров.
– Намеки ваши, господин подполковник, неуместны! – взъярился Павел. Сколько ж можно, в самом деле, терпеть!
Контрразведчик скис, сделал даже попытку примирительно улыбнуться – и показалось, будто бульдог слегка раскаивается, что уродился таким злобным и некрасивым.
– Вы, юноша, шуток не понимаете… Позвольте представиться: Шебутнов Михаил Владимирович.
– Сантиньев Павел Рудольфович, – буркнул все еще раздраженный прапорщик.
– А фамилия-то у вас итальянская! Батюшка, чай, Родольфо Сантини некогда именовался?.. Ну, не дуйтесь, хотите, пардону попрошу? Извольте, прошу… И услугу окажу – погоны с вас сдеру, что ж глаза товарищей ими мозолить. А потом вы – мои сдерете. Будем как две приятельствующие мартышки, что друг у друга блох изничтожают.
Впился в прихваченные суровыми нитками павловы погоны, но пальцы, вяло подергавшись, заскользили и сорвались.
– Не получилось… – пробормотал подполковник, – а у меня, представьте, в детстве были как раз две мартышки. Друг для дружки – милы и ласковы, а меня – отменно не любили. Вот ведь казус какой… не получилось…
…Но Павел его уже не слышал, даже перестал ощущать присутствие, потому что от пирса, только что отправившего останки России в небытие…
…Шел тот, кто только и мог ТАК идти…
И казалось, что на ногах его – замечательно наточенные коньки, что специально и только для него существует ледовая дорожка, по которой скользит, не прилагая усилий, огромное тело.
И прапорщик кинулся к великану, захлебываясь ликующим воплем:
– Ге! Ор! Гий!! Ни! Ко!..
А «лаевич» довопить не успел, потому что идущий по севастопольскому молу услышал, заметил, наддал навстречу и даже ручищами замахал, как конькобежец на финишной прямой. И не нужно ему было бороться с земным притяжением – какое там, к черту, притяжение?! – напротив, земля будто бы сама сообщала ему ускорение.
Георгий поднял далеко не миниатюрного фендрика, прижал к махине груди и, не сбавляя шаг, понес его и себя от пирса – прочь.
– Павлушка, казачок, как вытянулся! А ты все же здесь, в Севастополе, значит, сон и гадалка не обманули! И все еще в погонах!.. Дай-ка я их сковырну…
Чуть поддев твердым, как гвоздодер, ногтем, вот именно что не отодрал, а сковырнул, отшвырнул подальше в помертвевшее от небывалого штиля море, потом поставил Павла на ноги – и они пошли рядом.
– А вы зачем здесь, дядя Жора, Георгий Николаевич? И что за сон, что за гадалка?
– Мама твоя приснилась, но не хочу сейчас об этом… А тут я стивидор, как и в Одессе, – просто стивидор. Размещал на линкоре кое-какое военное имущество и барахлишко отбывающих. Народу много, грузы упакованы беспорядочно, а линкор – корабль строгий, для табора не приспособлен, пустяковое дело – остойчивость потерять. Пришлось потрудиться – и головой, и горбом… Дед-то мой жив? Когда его видел?
– Он столько для меня сделал, от голода спас. Очень ругался, когда мы с Торбою год назад ушли в Добровольческую армию. Но говорил, что и меня, и вас дождется… Только теперь уж вряд ли… Торба под Каховкой погиб, меня вот в ногу ранило…
– Еще как дождется, не унывай. И любимую свою присказку вспомнить не преминет!
Уходили от мола быстрым шагом, и у Павла было ощущение, что нога больше никогда болеть не будет, что сердце и легкие вернулись и разместились где положено, и потроха тоже вернулись – ох, и пустыми же они вернулись! Ганна, где твои борщи, свекольники, котлеты? Корми нас и не ворчи, что на Георгия Николаевича, кацапа ненасытного, не наготовишься…
Уходили быстрым шагом, молча. Но Георгий то и дело чуть склонялся к Павлушке, к шее его, растертой давно не сменявшимся подворотничком, а еще чуть выше – воротом шинели… Склонялся, потому что сквозь запахи только-только наливающегося мужской силой тела сына еще пробивался запах его матери…
Риночка, Регина, королева, да будет тоска по тебе так остра, чтобы изрезала она мое сердце!..
Уходили от прежней жизни быстрым шагом, молча. И не видели, конечно, как подполковник Шебутнов трясущейся рукой вытащил наган и приладил его к пятому левому межреберью… и не услышали издевательский щелчок осечки, даже тоскливого подполковничьего воя и яростной ругани по поводу давно не чищенного оружия – не услышали.
А уж того, как Шебутнов улегся там же, на молу; как, поджав колени к животу и почти уткнув в них голову, жалобно попросил у Господа избавительной смерти и забылся, наконец, – они, скрывшись за поворотом, видеть и слышать тем более не могли.
Красные двигались от Симферополя к портам и гаваням не очень быстро, – похоже, Фрунзе чуть их придерживал, давая белым хоть какое-то время на эвакуацию.
А может, это разрозненные остатки врангелевских дивизий, брошенные и преданные своим командованием, цеплялись за перевалы с уже бессмысленным упорством… А может, что-то другое… Но в любом случае красные вошли в Севастополь только на следующий день, 15 ноября 1920 года – и не ранним утром, а за полдень.
Глава седьмая
«Риночка стала еще моложе…»
Они родились в один и тот же день 1881 года. «Какая совершенная симметрия в этом числе! – думал Бучнев. – Две восьмерки, перевернутые символы бесконечности, а по обе стороны от них – единички, как два самостоятельных, само-стоящих «Я».
Но им не дано умереть в один день, два «Я» так и не стали «Мы», она умерла в 1917 году… 1917 – какой случайный набор цифр, в отличие от 1881 с его идеальной зеркальной симметрией.
Ему иногда представлялось, будто она, становясь с каждым днем все моложе, пустилась в обратный путь, к минус бесконечности, а сам он, становясь все старше, бредет в противоположную сторону…
«Это ужасно, что мы так отдаляемся, но надо перетерпеть – и где-то там, в искривленном пространстве, – думал он, – противоположность минуса и плюса исчезнет, и все сойдется в единую бесконечность».
Тут раздавался первый крик петуха.
Этот евпаторийский петух подавал голос пятикратно, через неравные промежутки, словно подражал муэдзинам, пять раз в сутки призывающим правоверных к намазам.
И намаз Фаджр, предрассветный, символизирует время рождения человека, но второй намаз, Зухр, – это уже восход, это возмужалость тела и созревание тревог, когда еще пышен хлеб надежд.
Тогда почему же так скоро пришла пора для Аль-'Аср?!
Полуденный намаз Аср – и ты вдруг понимаешь, что жизнь человеческая не протяженнее краткого слова в бесконечном монологе Аллаха, что пора готовиться к смерти, как солнце готовится сползти с зенита – в никуда…
Но есть еще время до намаза Магриб, который свершится сразу после захода, есть еще время до намаза Магриб, есть еще время…
Зато безжалостно мал промежуток до пятого намаза – Иша.
И малость эта – конец надеждам твоим, человек! Тебя будут помнить столько, сколько считаных часов промелькнуло от Аль-Магриб до Аль-'Иша, а забудут – навсегда.
Так отдай последние силы души пятому намазу и возрадуйся хотя бы тому, что всё, а не только ты, подлежит уходу в Бесконечность, где – о доброта Случая! – два само-стоящих «Я» вдруг да и смогут встретиться.
И слиться в то самое «Мы», что в мечтах и снах им было явлено.
И будет этим «Мы» рай, а всему, что не «Мы», – будет Пустота.
Однако в промежутках между криками петуха своевольно свиристела какая-то птаха – и этому горластому, бодрому «Я» не было никакого дела ни до вечной Пустоты, ни до метафизики намазов.
Вот и ему, Георгию Бучневу, надлежит быть бодрым… только еще чуть-чуть побыть в полудреме, с Риночкой… но тут в дверях, угодливо распахнутых часовыми, возник начальник караула, пальнул в потолок и завопил:
– Полундра!!! Хорош дрыхнуть, контра! Сёдни всех вас перешлепаем – тады и наспитесь!
Каждое утро, какое бы количество спирта ни было выпито накануне, товарищ Федор являлся в полном своем блеске, стрелял в порядочно уже продырявленный потолок и вопил, надсаживая глотку, одно и то же.