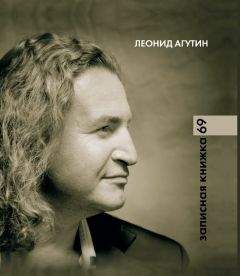Владимир Казаков - Роман Флобера
– Ладно, ладно, не плачь, ну ты-то ей хоть периодически впердоливаешь?
– Да ты чего?! Это же какой-то инцест получается! Она же для меня теперь то ли дочка, то внучка, то ли сестра. Незаконнорожденная. Вот в цирке были два раза, это – пожалуйста. В парке Горького – на колесе обозрения. На Останкинской телебашне. В консерватории – на Шумане. Всякие презентации, вернисажи, выставки – без счета. Жалко ее. У нее, считай, детства-то не было. Чего она в жизни видела, кроме прополки картошки и чужих пиписек?! Сам не знаю, с какого перепугу я стал такой чувствительный. Думаю, от многолетнего пьянства нервная система ёкнулась к чертям и тянет меня на всякие сентиментальные маразмы!
Да, вот вчера ходили в Дом музыки. На «Евгения Онегина». Какая-то провинциальная труппа гастролировала. Первый акт закончился, она такая взбаломошная, в буфет, прыжками. Глаза дикие, эклеры в рот пихает и, припрыгивая, лопочет: «Здорово! Коля, миленький, умоляю, не рассказывай, что там дальше будет! Жуть, как интересно!»
Пиндец! По-другому не скажешь.
– Да-а, Коль, по-моему, тебе явно надо жениться.
– На ней, что ли?! На Веронике?! Я, конечно, дебил, но не до такой же степени! – Я закурил сигарету.
– Ну почему обязательно на ней… Мало баб, что ли?
– Да кому я нужен? Во-первых, я уже старый пердун. Потом у меня тараканов в голове больше, чем в лесах муравьедов. Южноамериканских лесах, конечно. Не-е, на своей личной жизни я уже написал жирное матерное слово.
– А как Маринка Голикова, любовь твоя бывшая?
– Игорь, это вообще отдельная песнь песней. Звонит почти ежедневно. Беспокоится, пьяный ли я, трезвый. Бред! Мы же давно не имеем ни малейшего отношения друг к другу! Да, любил я ее, правда. Но не сложилось! Вышла замуж. И живет, как она мне вдалбливает ежесекундно, счастливо и преотлично! И все время спрашивает про Веронику! Если это ревность, то какая-то маразматическая. Глупость бабская! Вроде бы мужик уже давно не твой, а все равно жалко отдавать какой-то другой бабе. Тем более Веронике! Вот сегодня приезжала. И обиделась. Не хотела она, видите ли, лицезреть Веронику! Открытку с мишкой привезла!
– Каким мишкой?! – фыркнул Петров после очередной рюмашки.
– Хорошим мишкой. С бантиком! – продолжал ныть я. – А у меня что, в конце концов, какие-то обязательства перед ней есть?! Это жена, любовница?! Что она мне спокойно жить-то не дает?
– На, лучше выжри. – Игорь набуравил водки. – И успокойся. Что ты вообще в этой Маринке нашел?! Она же ну совсем ничего особенного, ничего жопораздирающего, ну, категорически баба-то совершенно типовая, как многоэтажки в Бутове!
– Ничего ты не понимаешь! Она удивительная. Наверное. И восхитительная. Очень может быть. Ох, как ты не прав! – маятником качал головой я. – Она как раз именно жопораздирающая! Сильно раздирающая.
Мой мозг, шалун, сразу нарисовал мне картинку раздирающей себе зад женщины, причем не абы какой, а именно Голиковой. И от ужаса промелькнувшего образа я отрубился.
Я проснулся ночью. Было тихо. Никого уже не было. На столе посредине комнаты высились горки вымытой посуды. Наверное, Вероника помыла. Кстати, куда она сама-то делась, они же с Васькой зайцев репетировали? Да ладно. Голова, видимо, еще спала, поэтому не болела. Какой-то странный и сумбурный день рождения получился. Чего-то не хватало. Или кого-то. Как-то не было легкости полета. И наверное, уже не будет. Но начинать грустить было рано и глупо. Тем более что по православным календарям у меня сегодня именины. Я сидел, объятый сереющим утром, тупо качал ногой и наливался остатками маринкиного вискаря «Лафройг». Который, что бы мне ни говорили всякие эстеты и гомосексуалисты, воняет никаким не соленым бризом Северного моря! А чисто конкретно гадкой мазью для натирки лыж из далекого, далекого советского детства!
Десятая глава
Все пассажирские поезда в мелкую провинцию своими прародителями могут смело считать советские пункты по приему стеклотары. С перманентным грохотом, битьем пустой посуды, матюками грузчиков и визглявым лаем приемщиц. Все эти мерзкие, но очень знакомые звуки густо наполняли пространство вагонов и вырывались наружу, на перрон. Поезд в бывший стольный город Углич – столицей уездного княжества он перестал быть еще в XIII веке – уходил с Белорусского вокзала. Это меня немного удивило, потому как с этого же вокзала я когда-то уходил в армию, в ракетную часть под Полоцком. И мне всегда казалось, что эти два города, Полоцк и Углич, расположены… ну как бы сказать, не совсем рядом. Я точно знал, что в Угличе должна быть Волга, а в трясине белорусских болот – не может быть никакой Волги! Или как?! Может, новая власть поменяла стороны света? Указом.
Короче, я лениво разминал мозги разными никчемностями, ожидая на перроне Веронику. Она, конечно, опаздывала. И уже крепко. Интересно все-таки, вот когда она была откровенной шлюхой в самом начале нашего творческого пути, то никогда не опаздывала. Ну не могут шлюхи опаздывать! Это очень ответственная работа! Если что, ходи голодная. А тут… Наконец девушка показалась в конце платформы.
– Эй, прыжками, прыжками! – замахал руками я.
Увидев меня, она наконец сообразила, что опаздывает, и перешла на рысь. Бежала она на редкость смешно, сумка летала справа налево, а попа при этом, по законам физики, моталась слева направо. Интересно, когда же это она успела такую задницу отрастить? Вроде несколько месяцев назад была стройным, в меру упитанным подростком, с сиськами, правда, но попы такой точно не было. Вероника наконец прискакала.
– Ты чего?!
– Да извини, Коль, я все не могла решить, что надеть, что с собой взять, что там сейчас в этом Угличе носят…
– Без штанов там ходят, с голым задом. – Я наконец запихнул в вагон девочку и залез сам. На удивление, мои слова оказались практически пророческими.
Поезд уже громыхал где-то в районе Лесной улицы, когда мы входили в купе. У мутного окошка друг напротив друга сидели два одинаковых и голых мужика. Совершенно голых, ну абсолютно ню! Хотя нет, не совсем. На них были военные фуражки. С бодуна этих персонажей можно было бы принять за ожившую русскую народную деревянную игрушку. Ну, там, где дергаешь за веревочки и две удалые фигурки попеременно фигачат молотками по наковальне. Только здесь вместо молоточков были огромадные елдешники, а вместо наковальни, пардон, купейный столик. Оба были в полную задницу. Один фрейдовски, сверху вниз, поглаживал чуть початую бутылку водки со странным названием «Журавли» и, растягивая слова, почти напевал:
– Во-от, во-дочка, такая не-ежная, такая мя-гонь-кая, что хочется спросить у нее ла-асково: а ва-ас, как зовут?
Второй смотрел с влюбленной поволокой то ли на бутылку, то ли на собрата и отвечал:
– Жур-жур-жур, жур-жур-жур…
Я даже растерялся в этой идиллии. Пока я закрывал рот, молотобойцы наконец заметили мое вторжение:
– О-о, к нам мальчики пришли…
– И девочки… – добавил второй, разглядев за моей спиной пылающий кумач Вероникиного лица.
Я резко задвинул дверь и поволок Веронику искать проводницу.
– Что это за лебединое озеро у меня в купе, я не могу допустить, чтобы моя невинная дочь… – тут я несколько запнулся. – Короче, я не могу ехать с ребенком в этой голубятне! Ищите другое купе.
– Да щас, не надо ля-ля только. Щас найдем другое. Мест полно. А эти два прапора уже достали. У нас же поезд проходящий, южный. В Москве половина сошло. А эти козлики второй день квасят. Приличным людям покоя не дают. – Крашенная в бледный апельсин хохлуха, покачивая бедрами в такт колыханию состава, пошла по проходу искать свободные места. Уже издалека лениво и равнодушно донеслось: – И когда они только натрахаются…
Причем по ее тону было невозможно определить, кого она имеет в виду: педиков-прапорщиков, меня с Вероникой или вообще все население огромной России, отделенной от нее тонкой стенкой купейного вагона.
Зачем я ехал в Углич, я не знал. Просто так. Захотелось, и все. Не торчать же все время в Москве! Опять же ребенку, ети ее мать, полезно прогуляться. Этот ребенок за последние месяцы заметно опушился, научился довольно внятно и с чувством собственной значимости болтать со всякими певуньками и теледудочками на разных презентациях, куда я ее таскал. Впрочем, в этом не было ничего удивительного. У этих теледивок мозгов было абсолютно столько же, сколько и у Вероники. Очень многим она вообще могла одолжить свои.
Развалясь на нижней полке – кроме нас в купе никого не было, – я с дорожным воодушевлением поглощал соленые огурцы и жареную курицу. За окном изредка мелькали поля с черно-рыжими кляксами коров и кариесные заборы водокачек. Иногда вдоль железнодорожного полотна отчего-то выстраивались местные обыватели. Мелькающими удивленными лицами они были похожи на пожилых среднерусских зайцев, впервые в своей жизни увидевших кенгуру.
Вероника тоже валялась на полке, смачно жевала соленый огурец и читала «Робинзона Крузо». Иногда после прочтения пары абзацев она, нахмурив бровки, смотрела в загаженный потолок купе.