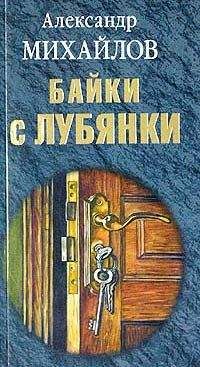Давид Ланди - Биоген
Мульт: А то каноэ продырявлю.
Директриса отогнала рукой прижужжавшую на сладковатый запах духов осу (переметнувшуюся на сторону завуча) и добавила, умиленно глядя в наши глаза зеницами своих очей:
– Точно так же, как в пятидесятых годах мы наслаждались речами Никиты Хрущева, точно так же и вы будете умиляться позывами наших лидеров даже спустя тридцать, сорок, пятьдесят и сто пятьдесят лет!
Взяв стакан, выступающая допила воду и, шепнув что-то завучу, продолжила выносить мозг, инициируя грабеж:
– А сейчас, ребята, я расскажу вам историю, из которой вы узнаете, как внимателен и заботлив был Ленин к детям. Это случилось в далеком тысяча девятьсот семнадцатом году, когда Красная армия ценой невероятных усилий отбивалась от капиталистических интервентов и граждан России, стремящихся погубить нашу революцию. Бах-бах! Трах-тах! Ах-ах! – гремело на всех фронтах. Народ, обрадовавшийся государственному перевороту, недоедал, недопивал, недоживал, отдавая все до последнего куска хлеба на фронт, где будущие маршалы Советского Союза, Жуков, Тимошенко, Рокоссовский, Толбухин и другие[183], героически уничтожали своих соотечественников, не соизволивших праздновать свержение и арест законного правительства.
Мульт: Если вообще правительство может быть законным, а законы правительственными, когда ты не одобрял ни первое ни второе.
– Противников большевистского мятежа оказалось так много, так много, так много! – затараторила испуганно директриса, вжившись в роль красноармейца как в саму себя, – что патронов на всех стало не хватать! Поэтому Первая конная армия под предводительством сельского паренька Сёмы Буденного рубила не признавших революцию шашками! Рубила прямо по их бестолковым головам и наглым шеям, экономя таким хитрющим способом боеприпасы для остальных подданных великой империи, которых брали в заложники (вместе с семьями) будущие командармы Красной армии, проводя разъяснительную работу среди безграмотного и темного населения страны, не пожелавшего голодать на благо всеобщего счастья. Делать им это было легко и приятно, так как совесть вчерашних крестьянских пареньков обналичивалась в звания комбригов и по законам революционного времени экспроприировалась Коммунистической партией России до той поры, когда придет счастливая минута получать ее взад. Но минута эта так и не пришла, потому что обещанного счастья не наступило. – Директор просканировала взглядом обращенные к ней лица, включая лики матерей и облики отцов, и я тоже пробежался по ним осторожным взором первоклашки – по их глазам на одухотворенных физиономиях…
«Какие у моего народа глаза! – подумал я. – Они постоянно навыкате. Навыкате, но никакого напряжения в них нет… Полное отсутствие всякого смысла! И хоть нет никакого смысла, но зато какая мощь! Какая духовная мощь!!! Эти глаза не продадут. Ничего не продадут и ничего не купят! Что бы ни случилось с моей страной, во дни сомнений, во дни тягостных раздумий, в годину любых испытаний и бедствий эти глаза не сморгнут. Им все божья роса»[184].
Женщина вновь перевела дух (ее сердце сказало: ту-дух), и она продолжила подбираться к кульминации сюжета с придыханием в гландах и волненьем в груди.
– Так же как не хватало еды беднякам, – звенел голос революционерки стройной частотой непоколебимых струн, – не хватало ее и Владимиру Ильичу, горевавшему в кремлевских палатах вместе с другими большевиками от недоедания до слез. И вот, в один из таких слезных дней, заходит как-то в кабинет вождя Феликс Эдмундович Дзержинский, давно уже озабоченный слезоточивостью Ильича, и говорит, щуря приподнятой небритой щекой близорукий, всхлипывающий глаз:
«Владимир Ильич?»
«А?!» – отзывается тут же вождь.
«К вам ходоки!» – пропускает позывной «б» товарищ по партии.
– Дааа? – удивляется деда Вова.
«Дааа…» – подтверждает революционный палач.
«А что они, батенька, принесли?» – интересуется, чуть картавя от волнения, берлинский сувенир.
«Свежей рыбки», – сообщает белорусский дворянин.
«А сколько они шли?» – допрошает, не унимаясь, Ильич.
«Две недельки», – признается неохотно Дзержинский.
«А какое сейчас время года?» – тянет волынку шеф.
«Лето», – вздыхает подчиненный.
«А какая на улице температура?» – тычет пальцем в ленинский, огромный лоб[185] вождь.
«Плюс тридцать пять…» – прячет, лоханувшись, в голенища сапог виноватый взгляд основатель ВЧК.
«Детям все! Детям!» – закончила директриса монолог и зааплодировала, высекая золотые искры счастья ладонью о ладонь и перстнем о кольцо так усердно, что во многих глазах заискрился восторг.
После продолжительных оваций она обрадовала нас скорым вступлением в октябрята, перспективой пионерии, комсомолии и прочих бед недоразвитого социализма. Для этого требовалось полюбить школу, зауважать старших, прилежно учиться и знать октябрятский слоган: «Только тех, кто любит труд, октябрятами зовут!»
«Ну а кто не любит труд, тех работать не зовут», – домыслил я следующую строчку незамысловатого стихотворения и потупил от стыда взор.
Пламенная речовка ораторши вылетела из ее горла, как факел из ствола огнеметного танка ХТ-26/БХМ-3, и забрызгала слюной лакированную трибуну, покрытую шпоном красного дерева с профилем Ленина, выполненным на фасаде из шпона бука. После этого женщина передала электрический символ мужского плодородия завучу, а сама села передохнуть…
Меня стало подташнивать… То ли от жарких лучей звезды, наплывающей на нашу планету, как футбольный мяч на удар шведкой. То ли от тоски, вкравшейся в сердце ребенка мохнатым пауком раздражения. То ли от того, что моя мама так и не купила мороженого и теперь возмущенный желудок мстил скучающему Давиду, не желая прощать слабости, проявленной им перед очередью за белым, прохладным, сладким, молочным, тянущимся, тающим, растекающимся, обволакивающим, успокаивающим, радующим, аппетитным лакомством в вафельном стаканчике в вафельную клеточку в вафельной стране[186]. То ли маленький житейский опыт маленького человечка с маленькими мозгами, но большими способностями подсказывал, что ничего хорошего здесь не предвидится. Короче, я загрустил, затосковал и потерял связь с действительностью…
Прекрасна жизнь – на вид.
Но день единый, —
Что долгих лет усильем ты воздвиг, —
Вдруг по ветру развеет паутиной…[187]
«И жизнь прошла. И ты уже старик», – закончил я сонет Петрарки словами Мульта и чуть не зарыдал от такого расклада, вспомнив безвременную кончину Лауры:
Как-то Лаура на лифте каталась —
Ноги уехали, попа осталась…
После призыва завуча всем пройти в школу, старшеклассники с красными тряпочками на шее бросились к нам и стали хватать малышей за руки, создавая таким образом пары из длинных и коротких детей. Я достался высокой, худой девчонке с головой, разрезанной на две половины идеальным пробором для хвостов, перевязанных розовыми бантиками. Красная тряпочка на ее шее показалась мне знакомой… «И она мне что-то напоминает… Но не могу вспомнить, что именно. Где ты ее взяла?»[188] – чуть не заговорил я голосом Винни-Пуха и не захрюкал носом Пятачка. Но, сделав ревизию своего винчестера, вспомнил фильмы про индейцев.
Первыми в мое воображение явились вожди. Они пришли, подчиняясь магической практике вуду, технику которой я освоил, пытаясь однажды вернуть к жизни сиамского кота, сбитого машиной во дворе. Кот уже, кажется, начал подавать первые признаки жизни, когда мое терпение лопнуло, и я закопал его, к чертовой матери, в приготовленную за домом ямку. Спустя два года, в пионерском лагере, я пытался вызвать дух животного из загробного мира, чтобы извиниться за халатное отношение к воскрешению, – в то время как остальные пацаны, накрывшись одеялами, призывали Пиковую даму с помощью зубрежки ее имени и зеркальца, стибренного у девчонок из нашего отряда:
– Пиковая дама, появись! Пиковая дама, появись! Пиковадамаись. Пикмаись… пись…
И она появилась, а мы исчезли, как статуя Свободы из-под покрывала Дэвида Сета Коткина[189], выбежав от страха на улицу.
Но вернемся к вуду. Вуду подействовало, и вожди стали появляться в моем воображении с перьями на головах и физиономиями, похожими на палитру из общественной мастерской. Внимательно всех осмотрев, я не нашел искомого аксессуара и теперь стоял, пытаясь припомнить, где же я ее видел… тряпочку, завязанную на шее… но только не красного цвета, как здесь, а… вспомнил-вспомнил – серого! Я видел ее у прабабушки, в маленьком, круглом, выпуклом черно-белом телевизоре «Янтарь», когда смотрел фильмы про индейцев, сражавшихся под предводительством вождя Мета-комета[190] против бледнолицых ковбоев, колонизировавших Северную Америку, в то время как чукчи воевали с русскими казаками под предводительством Семена Дежнева, полагавшего, что он открыл Колыму, хотя до Джугашвили ее никто и не закрывал.