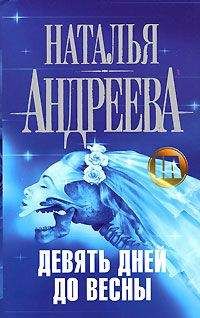Наталья Волнистая - Девять дней в июле (сборник)
Еще – она точно не была похожа на мою мать. Не внешне – внутренне. Мама – сухонькая птичка с легкими кудряшками перманента. Она не распространяла вокруг себя той уютной, мягкой и какой-то влажной, чисто женской субстанции, из которой, собственно, и складывается Дом. У нас его никогда и не было. Нет, имелась, конечно, квартира, даже трехкомнатная, окнами на пруд. Доски пола выкрашены коричневым. Стены в кухне – казенно-синим. Но и вещи, и люди в квартире казались как-то – «не навсегда». Будто вот-вот выдует их сквозняк. Пахнущий так же, как листья осин после первых заморозков. Я и два моих брата родились от разных отцов, которые легко и безболезненно исчезли с горизонта. Соседки иногда смеялись, что наша мать приносит детей из леса. Наверное, лес и был ее настоящим домом. Она подолгу жила там с собакой и ружьем в легком домике-времянке. Собирала ягоды, сушила грибы. Охотилась на мелкую дичь, удила хариуса в прозрачных ручьях. Но ее любовь к лесу не была любовью охотника или хозяина-добытчика. Это сильное, ни разу не выразившееся в словах чувство ближе всего стояло к поэзии. Из всех ее сыновей оно передалось только мне.
Я навсегда запомнил, как мама первый раз взяла меня пятилетнего с собой. Лес встретил нас салютом тетеревиных крыльев. Птицы с шумом взорвали траву чуть ли не у нас под ногами. Тропинка была испещрена следами. «Это – лось», «Это – медведь», – говорила мама. А я опасливо озирался, ожидая, что «лось-медведь» вот-вот обнаружат свое присутствие. Но они не появлялись, хотя были рядом, может быть, смотрели из чащи. С возрастом я научился видеть и выслеживать их. Но к окончанию школы, бродя с ружьем по ворге, все чаще думал не о добыче, а рассеянно мечтал, представляя, что вот сейчас, как в «Олесе», – забелеет за деревьями бок убогой хибары, и я увижу… Кто прячется в чаще моего сна, в самой сердцевине кошмара.
IIIКто прячется в чаще моего сна, в самой сердцевине кошмара? Не надо было себя обманывать, я, в общем-то, всегда знал, что этим кончится. И я останусь один на один со смертью в таких вот бутафорских декорациях. Будет слегка пованивать цирком, и будет тихо. И я буду ждать, когда то, что произойдет, превратит мою жизнь в фигу, в дырку от бублика. Лежа на брюхе. В ночи. В черной траве. В закрывших глаза до утра одуванчиках. Нелепо светясь белой рубашкой в темноте. Светлячок. Пустой после проблева. В руке – «розочка». Слева – шаги и гогот идущих мимо. То ли шпана, то ли наряд ППС. Но хорошо хоть больше не кажется, что я один на цирковой арене, где медленно оседает рыжая пыль и вот-вот понесется по кругу что-то совсем несусветное: курицы в лаптях, раки на хромой собаке, зайчики в трамвайчике, жабы на метле, компьютерные динозавры или, не дай бог, тигры на мотоциклах. Словом, весь гоп-парад сумасшедшего старика Чуковского. Который бредил почище Гойи, вот только выдавал все это за смешные детские сказочки.
Так не пахнет жизнь, так пахнет – картон. Косые декорации пьяного бутафора. Но ведь были же, были и в моей жизни дни, такие трепетные и живые – что хотелось плакать. Они складывались в июль, глубокий до обморока, когда к вечеру медленно остывало небо, серое от зноя. И улицы большого города пахли скошенным сеном. А городские пруды светились ближе к сумеркам так тихо и таинственно, что как-то не думалось уже о лежащих на их дне дохлых котятах, ржавых трубах и строительном мусоре. Думалось о беззубках – озерных моллюсках, под невзрачными створками которых – перламутр и влажная розовая плоть. Гребешки и язычки. Мякоть раздавленного абрикоса. Словом, все то, что особенно волновало меня в эти дни в теле моей Светки. Мы познакомились на вступительных экзаменах и в июле остались одни в ее квартире. Коротали дни на слабом озерце в черте города, где на берег, заросший крапивой, выходили окунуться в обед местные жители. Скучные – как азбука умеющему читать. Я говорил Светке, что у нас в поселке такой беспощадный зной всегда называли «варом», и для здоровья он фантастически опасен. А потом с поспешной жадностью тащил свою Цокотуху домой. За плотно сдвинутые шторы. В темнеющую тайну тени и запах кефира, которым я долго и осторожно смазывал ее обгоревшую кожу.
У обоих это было в первый раз. И поначалу мы по полдня не вылезали из постели. Хотя, как я понял через полтора года, когда Светка стала моей женой и родила мне сына, к сексу она относилась очень спокойно. Вот именно просто – давала и просто – ждала. Собственно, занимаясь этим вместе, мы находились совершенно в разных местах. Я не знаю, какие ландшафты видела она, закрывая глаза во время любви. Иногда, стараясь вообразить ее мир в этот момент, я видел что-то нечленораздельное. То, должно быть, что видит человек, когда стоит на плоту, медленно плывущем вдоль туманного берега.
И несмотря на то, что Светка была мне безусловно и слепо предана, со временем я начал ловить себя на странном раздражении. Мне казалось, что она воспринимает нашу любовь как молот и наковальню, где я – удар за ударом, толчок за толчком – выковываю цепь, с которой уже не сорвусь. А потому по-хозяйски спокойна. И совсем не спешит разделить со мной участие в этой гонке. Я же, стараясь за хвост ухватить наслаждение (а может то, что больше наслаждения, а может, то, чего я совсем не знаю), едва успеваю фиксировать багровые вспышки за влажной полутьмой век. Мимо. Со скоростью трассирующих пуль. Взахлеб. В скрученные хитрым узлом коридоры. Там искажены обрывки голосов и мелькают иногда странные рожи. Оттуда явился, наконец, и этот сон, из-за которого я здесь. В черной траве, в темноте, в слепых до утра одуванчиках.
IVВ черной траве, в темноте, в слепых до утра одуванчиках. В сантиметре от нелепой смерти, такой же летней и пьяной, какой умер мой брат. У братьев, видать, и смерти – сестры. Залетные шалавы: случайно, мимо, просто так. Только ему – ласковая вода, а мне – бутсой в висок или лезвием под дых. Пахнет сырой землей. Звезды в небе, как осыпавшиеся цветы. А во сне была женщина, каких сотни. Я сразу же забыл и лицо, и фигуру. И то, во что она была одета. Только помню – будто помехи в черно-белом телевизоре. Глядя мне в глаза, она просто назвала адрес: Парковая, 36, дробь 1, квартира 47. Дальше кино прекратили, полог задернули. Но адрес в память врезался, будто вытравленный кислотой. Неужели меня услышали? Неужели совсем скоро сбудется то, о чем я смутно мечтал, кружа с ружьем по ворге – болотистой и кустистой лощине?
И ЧТО произойдет? Я встречу настоящую ведьму? Прекрасную и любвеобильную? Испытаю то, что редко улыбается смертным? Эликсиры Сатаны. А как же изнанка всех договоров с нечистым? Вдруг что-то, лишенное собственного существа, просто использует меня, как дверь? Вопьется в мое нутро? Вскочит мне на закорки? Чтобы просто просочиться в наш мир? На манер обычного сквозняка. Вдруг оно просто ищет слабое звено?
В общем, несколько дней я ходил сам не свой. Чувствовал себя шизофреником. Никак не мог решить – ехать мне по адресу из сна или нет? Вконец измучившись, позвонил Севке. Своему единственному приятелю. Когда-то на абитуре нас поселили в одной комнате, и я не на шутку испугал соседа, решив однажды вечером почистить свое ружье. Уж не помню, зачем я тогда привез его из дома. «Ну, ты это… представь, – часто вспоминал потом Севка, – селят тебя с каким-то угрюмым чуваком… Он всю дорогу молчит. А однажды достает из шкафа ружье. Вот так просто… Ага… Ружье из шкафа. А что ли, мало психов на философский поступают? Через одного с приветом вообще-то». После зачисления Севка поехал со мной в лес. И с тех пор не пропускал ни одной весенней охоты. Как-то в Вальпургиеву ночь мы сидели у костра. И я рассказал ему про ведьму. Севке было можно. А потом, распив бутылку, мы долго глядели на звезды, поджидая, когда какая-нибудь хорошенькая пролетит мимо на метле. Но в этот раз мой приятель не смеялся. «Я бы… это… не пошел, – сказал он, подумав, – …ерунда какая-то… не вернешься еще… это… ну его… Или давай, что ли, я с тобой. И вообще… зачем тебе?»
Зачем? Откуда я знаю… Мне всегда казалось, что настоящая человеческая жизнь вовсе не сводится к совокупности внешних событий. Типа женился, родил сына, закончил вуз. Самое важное решается и происходит очень глубоко, в абсолютной темноте. Зачастую неясное даже тебе самому. Я хочу знать. Я хочу видеть. Единственное, что я сделал, отправляясь искать Парковую, позвонил Севке и сказал: «Пошел».
И вот тут началось странное. Я чувствовал, что не принадлежу себе полностью. Вернее, не совпадаю, что ли, сам с собой до конца. Я брел по улице. Серый асфальт, кое-где мягкий от жары. На газонах – чахлая городская трава. Глаз с фотографической точностью фиксирует каждый бычок под ногами. Каждый отблеск слепящего солнца в стекле. Но одновременно я как бы вижу себя со стороны, с высоты. Парня в белой рубашке. В светлых брюках. Он идет – руки в карманах – спальным районом одной из городских окраин. Минует трамвайное кольцо. Углубляется в арку. Проходит один квартал. Второй, неотличимый от первого. Останавливается перед единственным подъездом блочной шестнадцатиэтажки. Внимательно рассматривает эту воплощенную мечту любого террориста. Из подъезда выходит старик с собакой. Пока домофон не щелкнул, парень поспешно протискивается в дверь. Лифт грозит оборваться при каждом лязгающем всхлипе, но все же довозит его до нужного этажа. На секции – черная железная дверь. Пять кнопок. Надпись: «Россию спасут ученики школы № 69, бля…» Кнопка 47. Фашистская свастика. Оставшийся почему-то без тела член-истребитель. Парень поднимает руку к звонку и опускает. Какое-то время прислушивается к тому, что происходит за дверью. Еще раз поднимает руку. Опускает еще раз. Долго стоит. Потом отступает на шаг. Выходит на балкон, соединяющий жилую площадку с черной лестницей. Закуривает. С высоты 14-го этажа рассматривает город. Купола, заводы. Совсем близко горы, поросшие соснами. С левого края видно даже хорошо знакомое ему озерцо, где на дне, в кромешном иле молчат, намертво захлопнув свои пасти, беззубки. А по укромным заводям цветут, источая мерзкий аромат, мелкие восковые соцветия. Белая рубашка расцветает темными пятнами пота. Он ничего не может с этим поделать. Он ни с чем не может ничего поделать. Только чувствует, как одолевает его странное оцепенение, хорошо знакомое по ночным кошмарам. Ни проснуться, ни убежать. Есть что-то тошнотворное в том, как не самые лучшие из твоих снов обретают реальность. Они жадно всасывают ее оттуда, где неизбежно остаются черные дыры. И больные цветы кошмара хорошеют. Дети-вампиры. Только на пухлых губах, в самом углу – улика-предатель – рубиновая капля живой человеческой крови…