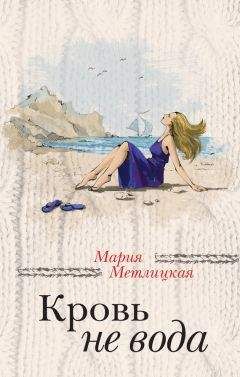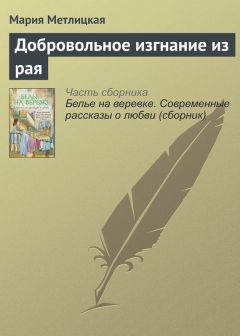Виктор Пелевин - Смотритель. Книга 2. Железная бездна
– Я вообще наблюдателен.
– Между прочим, – сказала Юка, – это действительно глубокая мысль, только я не уверена, что ты понимаешь ее сам.
– Где уж мне, – ответил я.
– Вернее, ты понимаешь ее в обычном мужском ключе – дескать, на уме у женщин одни тряпки, чего там еще может быть… Но я думаю, что писатель имел в виду другое.
– Что?
– Женщин называют прекрасным полом. Они привлекательные существа, в этом их сила и проклятие. Красиво и со вкусом одеваясь, женщина делает себя сильнее – и это не пустяк, а очень серьезная вещь. Целые империи рушились от этой силы. А поскольку красота всегда артистична, женщина доводит эффект до предела, как бы сливаясь со своим нарядом – и проецирует вовне предполагаемые им свойства. Это как воин. Если в руке копье, он будет действовать одним образом, если меч – другим.
– Понял, – сказал я. – Сейчас на тебе простое и строгое платье, к которому подходят серьезность, наблюдательность и недюжинный ум, да?
Юка с улыбкой кивнула.
– А до этого на тебе было платье в сиреневых бабочках, – продолжал я, – и ты сама казалась смеющейся бабочкой. Ты ни за что не выдала бы в это время такого аналитического рассуждения. Но все равно мне кажется – Киж что-то потерял.
Сказав это, я поморщился, вспомнив отвратительный эпизод в лаборатории. Но Юка, к счастью, ничего не подозревала – у меня хватило ума ей не рассказывать. Только вот хватит ли его у Кижа, подумал я с внезапной тревогой…
– Можем вернуться, – сказала Юка. – Я переоденусь в сиреневое.
– Не стоит, – ответил я. – Ты ведь красиво одеваешься не для Кижа, а для меня? Во всяком случае, мне хочется в это верить… К тому же мы пришли. Вот Лаокоон.
Даже одной мысли о Киже было достаточно, чтобы серьезно исказить восприятие. Змееборец с сыновьями выглядел сегодня как-то двусмысленно – и показался мне небритым после долгого запоя Тиберием, блуждающим в джунглях похоти вместе со своими любимчиками: те еще вкладывали в происходящее эмоции, но сам Тиберий, уже вконец пресыщенный, лишь отпихивался с отвращением от толстых кривых гениталий, направленных на него со всех сторон.
– И где же часовня? – спросила Юка, оглядывая статую.
– Я не знаю. У меня только ключ… Тут должен быть замок.
Мы некоторое время разглядывали статую, а потом Юка сказала:
– Да вот же. На самом видном месте.
Она указала на медную пластинку со словом «Лаокоон». Все буквы «о» в этом слове выглядели одинаковыми черными кружками – но одну окружали мелкие царапины. Я приставил к ней ключ, надавил на него – и он погрузился в пластинку.
Я почему-то ожидал, что статуя сдвинется с места – но вместо этого отодвинулась часть стены рядом с ней, и между двумя фальш-колоннами, выделявшимися своей неуместностью, образовался проход шириной в дверь.
Из этой черной дыры чуть потянуло погребом. Я увидел на обнажившемся полу медную букву «Ф» и понял, что делать.
Сосредоточившись, я собрал перед собой волну Флюида и направил его в комнату, как бы ощупывая пространство. Внутри что-то сразу поддалось – там зажегся свет, и послышалась тихая органная музыка. Даже воздух за несколько секунд потерял свою затхлость. Видимо, это место часто посещали Смотрители прошлого, и оно хорошо понимало их язык.
Мы вошли внутрь. Я увидел комнату со скамьями и стульями – как и положено в небольшой часовне. Дальняя ее часть была скрыта за багровым занавесом.
Почувствовав за спиной движение, я обернулся.
В часовне непонятно откуда появился худенький монах в толстых очках. Он походил на сильно состарившегося двенадцатилетнего мальчика.
– Здравствуйте, ваше Безличество, – сказал он и поклонился. – С вашего позволения, я закрою за нами дверь.
Он повернул ручку, и стена встала на место.
– Я аттендант при часовне и ваш почтительный проводник в мистерию Кижа. Я вхожу сюда лишь тогда, когда к Страдальцу приходят гости, а в остальное время живу в комнатке по соседству. Мое послушание в том, чтобы терпеливо ждать, поэтому я провожу большую часть времени в абсорбции.
– Часто сюда приходят гости? – спросил я.
Монашек пожал плечами.
– При прежних аттендантах это были только Смотрители. Но со времен Никколо Второго сюда также допускаются ученые и созерцатели, которым требуется ответ оракула. Они обращаются в канцелярию Смотрителя, и, если там находят дело достаточно важным, их допускают в часовню.
– А в чем заключается сама мистерия? – спросил я, не удержавшись от саркастической интонации.
Монашек, однако, оставался совершенно серьезным.
– Вы знаете, Ваше Безличество, – ответил он, – что Павел дал Кижу слово спасти его. Учитывая случившееся с Кижем, это было практически невозможно, но великий алхимик нашел выход.
– Какой?
– Он придумал этот трюк с сибирской ссылкой. Секрет в том, чтобы все время возвращать Кижу органы чувств. Каждый раз, оживляя его и отправляя в Сибирь, Смотрители чуть ослабляют связь Страдальца с Инженерным замком. Но работы здесь еще на много поколений.
– А почему именно Сибирь?
– Нужны очень сильные, яркие и даже болезненные впечатления, чтобы удерживать сознание Кижа вдали от петербургского дворца, к которому приковано его эфирное тело. Нужно все время как бы будить его – задремав, он низвергается вниз. Для этого приходится пороть его на каждом почтовом перегоне. Но это не месть. Это помощь. Из жизни в жизнь Киж идет по особому, удивительному, ни на что не похожему духовному пути. Наблюдать за ним можно из этой часовни. Сюда в тяжелую минуту приходят Смотрители, чтобы выслушать напутствие Страдальца. В нем истина.
– А каким образом, – спросил я, – господин Киж получает доступ к этой самой истине?
– Попытаюсь объяснить, – сказал монашек. – Вы ведь немного знакомы с действием Флюида, ваше Безличество?
Я заметил под погоном его рясы два вышитых колеса – знак Однажды Возвращающегося – и решил не обижаться. Я ведь действительно был знаком с Флюидом совсем немного – по сравнению, например, с Менелаем. А тот был лишь на один чин старше этого монашка.
– Можно сказать и так, – ответил я.
– Тогда вы без труда поймете, что происходит при обращении к оракулу. Как я уже сказал, Киж бредет по снежной пустыне, подвергаясь экзекуциям на каждой почтовой станции. Сами по́рочные избы ставили, должны помнить…
Мне показалось, в тоне монашка прозвучало осуждение, но я не стал его прерывать.
– Мы не знаем, что именно происходит сейчас со Страдальцем – и вообще не факт, что об этом имеет смысл говорить, ибо время в его пространстве свое. Оно не тождественно нашему, и вообще связано с нами не слишком. Но наши миры сопряжены таким образом, что каждый раз, когда этот занавес открывается, в далекой Сибири начинают пороть Кижа.
– Розгами? – спросил я.
Монашек отрицательно покачал головой.
– Наказывают там весьма серьезно – хлещут кожаными бичами. Муки полковника быстро достигают такой интенсивности, что создающий его поток Флюида как бы закипает, поднимается над маревом неопределенности и достигает позиции, откуда видно все. Когда страдание Кижа делается абсолютно непереносимым, в нем открывается абсолютное ясновидение – во всем, что касается Идиллиума. Если в этот момент задать ему вопрос, он ответит на него исчерпывающе и точно. Но его ответы обычно очень кратки. Связно говорить он в таком состоянии не может. Чаще всего кричит… Правильная интерпретация услышанного – постоянно возникающая у нас проблема.
Я поглядел на Юку. Мне казалось, что она должна прийти в ужас от услышанного. Но она опять меня удивила.
– Сколько вопросов разрешается задавать оракулу?
Монашек снял очки и протер их краем рясы.
– Так как в известном смысле мы являемся причиной страдания, через которое проходит Киж, существует традиция ограничивать себя одним вопросом.
– Одним на двоих? – спросила Юка.
– Нет, – сказал монашек, – в данном случае вы, госпожа фрейлина, и его Безличество можете задать по вопросу каждый.
– Вопрос может быть любым? – быстро спросила Юка.
– Да. Но не забывайте о милосердии.
Монашек указал на скамью в третьем ряду.
– Вот здесь вам будет хорошо. Ближе не садитесь, забрызгает.
Мы с Юкой робко уселись куда он сказал. Монашек подошел к стене, взялся за витой золотой шнур, свисавший с круглого бронзового блока, и повис на нем всем весом.
Громко вступил орган. Это была грозная минорная сюита – как сказал бы музыковед, трогающая сердце романтическая пьеса о том, как живет и борется человек.
Будто человек сам этого не знает. Я не художественный критик, но не люблю, когда врут: в реальности человек живет и борется совсем не так. Он не столько противостоит враждебному космосу в героической позе, как намекает музыка, сколько пытается быстро и незаметно уползти на четвереньках назад в кусты. И борется он не с враждебным космосом – куда там – а со спазмами собственного кишечника, от которых обычно и помирает.