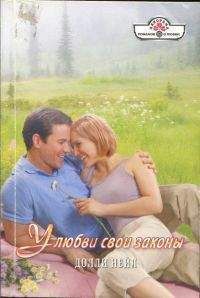Марк Берколайко - Фарватер
Сложилось согласно той радостной правде, что Одессе привычно жить в мажоре оперы-буффо… Или даже оперетты: «Смотрите здесь! Смотрите там! Как это нравится все вам?» – «Корневильские колокола» – ничего другого из популярной тогда вещи не знаю, а это «Смотрите…» любил напевать дед.
Так почему бы не предположить, что в первый день мая 1914 года истомившимся в ожидании весны одесситкам и одесситам все вокруг – и здесь, и там – до восторга нравилось?..
Часть I
Каждому назначен свой фарватер в океане Времени…
Глава первая
Долго спорили, что Павлушке надеть. Мамуля, с иногда подхватывающей ее страстью сокрушать устои, утверждала, что первый по-хорошему шалый день взывает к раскованности, а мундир – в пригороде, среди дач – типичный признак «человека в футляре»…
– Но если встретится кто-то из учителей? – возражал сын. – Или инспектор попадется по дороге?! Ведь остановит, выговорит и непременно доложит директору!
– Как ты опаслив! – досадовала Регина Дмитриевна. – Совсем не в нашу, соловьевскую, породу!
Спор разрешился, когда со второго этажа вторично протелефонировала мать другого Павлушки, Торобчинского, прозванного Торбой.
Наш же Павлушка, Сантиньев, именовался позатейливее – Сантимом.
Дед рассказывал, что телефон в Одессе появился в 1882 году, одновременно с Петербургом, Москвой и Ригой, одесситки «висели» на аппаратах часами, нагрузки на сети и коммутаторы случались чудовищные, а соединяющие абонентов барышни хамили безудержно.
Зато барыши дольщиков телефонных компаний разгонялись, как трескучие мотоциклетки.
А во время первого, бесконечно длительного, разговора мадам Торобчинская обмолвилась, что многие ее знакомые отправляются сегодня на Большой Фонтан, к упирающемуся в море Дачному переулку, где безумный гигант в пять часов пополудни совершит очередной заплыв по маршруту «14-я станция – Ланжерон – Люстдорф – 14-я станция».
– Что значит очередной?! – удивилась Рина. – Что такое вы, Люси, говорите? Кто этот «безумный гигант» и почему я о нем ничего не знаю?
– Потому что не читаете газеты и пренебрегаете жизнью общества! – ответствовала одномерная, вся в высоту, Людмила Михайловна. – Потому что поглощены исключительно поэзией и музыкой… если только не заняты сыном, – тут же, впрочем, прибавила жена дантиста, желая объективно отразить жизненные приоритеты соседки и подруги.
Одномерная Люси более всего на свете ценила объективность своих суждений. Ведь бессмысленно же оценивать людей придирчивее, нежели они того заслуживают, – хотя бы оттого бессмысленно, что и без чрезмерной строгости оценок к смертной казни через повешение дóлжно приговорить каждого второго.
В ее собственной семье этим «вторым» был, несомненно, муж – дантист Торобчинский. Конечно же, еврей, как и полагается порядочному дантисту, но выкрест. Веревка по нему плакала в силу многих причин, но основной была та, что, устав за день от кариесов, пульпитов и пародонтозов, он иногда бывал не в настроении сопровождать супругу в концерты, в театры и на журфиксы. Добро бы хоть ссылался при этом на внезапно нагрянувшую мигрень, так нет же, прикрывая сизыми веками скорбные семитские глаза, говорил неубеждающе ласково: «Люсечка, мне бы посидеть с рюмочкою коньяка и свежим нумером журнала Лондонского королевского общества стоматологов».
Отвратительно, согласитесь, уклоняться от общественной жизни во имя очередных рассуждений о больных зубах!
В семействе же Сантиньевых казнь, по мнению категоричной Люси, заслужил архитектор: своей демонстративной отрешенностью от всего, что не камень, дерево, конструкции или декор; своим капризным высокомерием в разговоре, но главное – частыми и продолжительными отлучками в последние три года.
В Петербург, якобы во исполнение выгодных заказов, – версия, пригодная для кого угодно, но никак не для Люси, чей взор пронизывал покров любой тайны.
В самом деле: с десяток богатых и щедрых одесситов рады были б вымолвить, словно невзначай: «Какой чудный новый дом (дачу, конторское здание) Сантиньев для меня замыслил!» – и поверить, будто бы в казенной, скупой на веселье и деньги столице могло найтись что-то выгоднее?!
…Как бы то ни было, в три часа пополудни, когда Павлушки вернулись из Ришельевской гимназии, решено было отправиться на пикник, которому начало заплыва придаст дополнительную пикантность. Отправиться с сыновьями, но – увы! – без мужей, ибо архитектор привычно отсутствовал, а дантист вынуждался обстоятельствами не отходить от кресла до вечера. «Глубокого вечера!» – о чем поведал, скорбно прикрыв сизыми веками подозрительно честные семитские глаза.
…Холодные закуски стараниями Ганны, кухарки Сантиньевых, были приготовлены быстро. Горячий чай заполнил сохраняющий температуру сосуд немецкой фирмы «Термос» – вопль моды для благополучных одесских семейств – ну а выезды трудами старичков кучеров были «готовы завсегда». Но тут возник спор. Как одеться Павлушке, ученику 4-го класса знаменитой на всю Россию Ришельевской гимназии?
Первой мужской одесской гимназии – той, что на углу Садовой и Торговой. Никак не второй, что на Старопортофранковской… не третьей или четвертой, тем паче не пятой, примостившейся на невзрачной Новорыбной улице!
Недаром же Юрий Олеша говорил, что мир делится на окончивших Ришельевскую гимназию и не окончивших её…
Да, так вот, ученику 4-го класса мундир и самому уже надоел, но ремень, но массивная бляха с выпуклыми буквами «РГ», начищенными так, что даже солнце, неосторожно бросив на них свои лучи, жмурилось от ответного блеска! Ремень и бляха – это вам не «сю-сю» белых фартучков гимназисточек Мариинки, это noblesse, которое oblige, это оружие, без которого ришельевец наг и беззащитен, как казак без нагайки или морской офицер без кортика!
В конце концов договаривающиеся стороны сошлись на перехваченной ремнем рубахе, а шинель – долой; вместо нее – тончайшее демисезонное пальто, почти плащ. Чтобы никому не стало обидно, такое же облачение присудили и Торбе, учащемуся третьего класса все той же Ришельевской. Дамы решили так во время второго, необычно краткого телефонного разговора, успев, разумеется, обсудить и свои туалеты – загодя пошитые в ожидании тепла и света свободные платья из муслина. Риночка остановилась на любимом белом, Люси – на цвете сложном, пронзительно-ярко-лиловом. Он, в сочетании с одномерностью мадам Торобчинской и ее же рыжей гривой, особенно зримо создавал образ молнии, ударяющей с карающих небес.
Шляпы, зонтики и фильдекосовые перчатки были согласованы столь же быстро – и вот два нарядных ландолета отправились в неблизкий по тогдашним меркам путь.
Немало колясок собралось на пляже. А еще прикатили три «мотора» и, в силу редкостности своей, мигом собрали вокруг себя кучки зевак. Шоферы, презирающие все, что не гудит и не тарахтит, на вопросы, казавшиеся им наивными, не отвечали, зато от ехидных комментариев «заводились» быстрее, нежели вверенные их заботам двигатели от пока еще маломощных стартеров.
Об эту пору случалось, кстати, путать в разговорах шоферов и шаферов, поскольку ударение не установилось, и многие произносили «шóферы».
Да ведь и были же основания путать! Неважно, что одеяния («прикиды», как уже тогда говаривали в Одессе) разнились: костюм-тройку с несколько фривольным жилетом и с бутоньеркою в петлице даже слепому легко было отличить от галифе, кожаных краг и перчаток с раструбами. Но сколько высокомерия, боги мои, сколько высокомерия! Значимость исполняемых ими обязанностей что шОферы, что шАферы блюли и подчеркивали, подчеркивали и блюли.
Сидевший в «Peugeot Goux» чудак, в ответ на неосторожное замечание о некоей галльской легковесности кузова, врезал так врезал: «Зато свои 187 килóметров в час наберет! Вы, тяжеловесный мой, чихнуть не успеете!» «Зачем это я чихать буду?! – обиделся галлофоб в кафешантанном канотье. – Пусть твоя бабушка в могиле чихает!» То есть, как мы бы сейчас сказали, перевел дискуссию в совершенно иной дискурс.
Громоздкий усач за рулем «Руссо-Балта» в ответ на реплики гудел как заведенный: «Неладно скроен – и чето?! Зато крепко сшит – вот чето! Царь, чай, не дурак, только в таком и ездить!»
И был так убедителен, что вскоре закивали: да, в данном случае не дурак.
И только «Олдсмобиль» не вызывал ни вопросов, ни реплик. Разглядывали белые шины, плавные линии, отличной малиновой кожи обивку салона… и припоминали, что этот, по цене трехэтажного дома, американский зверюга выиграл недавно гонку у самого быстрого в мире железнодорожного экспресса, а совсем-совсем недавно потряс всю Одессу, лихо взобравшись по знаменитейшей лестнице Николаевского бульвара[1]. А белозубый шофер, словно не замечая молчаливого восхищения зевак, поглядывал в небо и напевал «It's a long way to Tipperary…»