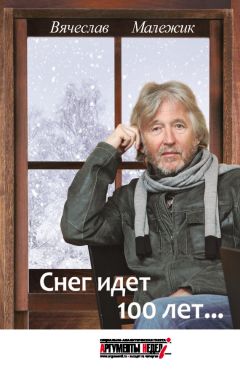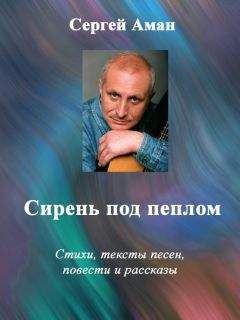Вячеслав Малежик - Портреты и прочие художества
– Когда вернешься со спецзадания, уставший, но живой, когда вместе с грязью снимаешь эту самую усталость, женщина, которая просто что-то там шустрит на кухне, шинкуя жрачку, снимает бóльшую часть стресса, и ты готов отдать ей не только чеки, но и все, что у тебя есть в это время, лишь бы она была рядом. О постели мысли чаще всего даже не приходят.
Не знаю, создавались ли там семьи, все-таки война, но что женщины тоже воевали – это точно.
VIII
Когда-то я присутствовал на открытом партийном собрании Москонцерта, посвященном приближающемуся Дню Победы. После долгих занудных разговоров о том, что надо крепить, помнить и непрерывно улучшать, слово взял один из пожилых работников. Он сказал примерно следующее:
– Да, две недели, может месяц, война была трагедией, сильнейшим испытанием и все такое. А потом люди привыкли жить в новых условиях, правда, любовь уже была Любовь, геройство – Геройство. А подлость или неправедные дела? Как написать, ведь меньше чем маленькая буква в правописании нет. Чтобы понять, как мы жили, надо умножить или разделить явление на коэффициент войны.
Да, наверное, война проявляет лучшие и худшие стороны человека. Но как же не хочется все-таки умножать и делить нашу нормальную человеческую жизнь и как же хочется, чтобы наши дети не вспоминали об этом коэффициенте.
* * *Бросили артистов на войну
Дух солдатам боевой поднимать.
По привычке я подстроил струну,
Но гитара отказалась воевать.
Объяснял ей ситуацию,
Толковал про дислокацию,
Дескать, песен пару сбацаем
И вернемся домой.
Не могла взять в толк гитара,
За кого мы там воюем.
Ну, а если ты решил так, старый,
Хорошо же, я поеду с тобой.
В полный голос звучала гитара,
Пела так, как нигде – никогда,
А потом мы на пару устало
Засыпали, не комфорт – ерунда.
И под песню мальчишки домой возвращались,
И под песню они забывали Пандшер,
Чтоб на духов пойти с окрепнувшим духом,
Коли хочешь вернуться и выжить, так верь.
И вот эта вот вера
Их сердца наполняла,
Помогая без меры
Любить и скучать,
Помогала мальчишкам,
Понюхавшим жизни,
Разобраться в себе,
Встать и стать.
И вернувшись домой,
Справил новые струны гитаре
И на память убрал
Тот аккорд, что вдали от Москвы воевал.
Что-то понял я в жизни,
Что-то понял я в песне,
А аккорд, словно пленка,
Это все записал.
С первым апреля
Все больше, все больше
Я жизнь понимаю,
Все меньше я знаю о ней.
Мой любимый, несравненный, светлый Юрий Петрович Ремесник, человек, поразивший меня своей формулировкой отказа переехать жить в Москву. Кто не знает, скажу, Ю. П. Ремесник – поэт и мой главный соавтор, человек, написавший около восьмидесяти текстов песен, за которые нам не стыдно, человек, который в значительной степени сформировал и меня, и моего зрителя. Ну так вот… Едва ли не в первый год нашего сотрудничества я предложил Петровичу перебраться в Москву, где было бы легче заработать с его поэтическим талантом, нежели в его родном Азове.
– Приезжай, я познакомлю тебя с нужными людьми, и ты не затеряешься, поверь мне.
– Спасибо. Но я не перееду к вам. Я боюсь оторваться от родной земли, от могил своих предков, от своих друзей, в конце концов.
И знаете, я ему поверил и не стал иронизировать над его текстом, который в моих устах прозвучал бы чрезмерно пафосно. И он продолжал жить на Дону, продолжал сочинять стихи и присылать их в толстых конвертах мне в Москву. И песни, особенно на первом этапе, у нас пеклись, как пирожки. А многие из них уходили и в народ: «Мадам», «Попутчица», «Все-таки ты права», «Емеля». Петровича знали и любили в городе, да и вообще на Дону. Каждый год в октябре мы устраивали в Азове концерты, и, наверное, целую неделю мой драгоценный друг был главным ньюсмейкером города. Телевидение, радио, газеты становились в очередь, чтобы взять у Юрия Петровича интервью. То, что известность штука опасная, говорилось много раз. И, наверное, внимание, которое ему оказывалось, подсаживало Петровича, как наркота.
А потом я улетал, жизнь входила в обычное русло, и были, я в этом почти уверен, ломки – естественно, психологического свойства.
То, что телевидение и радио переключались на сводки с полей и на криминальную хронику, забывая нашего поэта, приводило его к определенному дискомфорту. И нужно было определенное время, чтобы снова попасть в свою колею.
– Ты знаешь, – говорил Юрий Петрович, – я целый год вспоминаю потом наш концерт, как мы его готовили, о чем с тобой болтали, как реагировали на наши новые песни азовчане. А мои поездки к тебе в Москву – это вообще целая одиссея. Так что ты не обижайся, если чего-то приукрашиваю в своих воспоминаниях и рассказах.
– Петрович, да ты что?! Я счастлив быть рядом с тобой, и то, что я для тебя делаю, – ничто по сравнению с тем, чего ты заслуживаешь.
Но поездки мои были в Азов, да и в Ростов, нечасты, а в Москву Петрович приезжал примерно раз в год.
– Ты знаешь, я же учился в Москве… я неплохо ее знаю, люблю Подмосковье… Но, не поверишь, я устаю от подмосковных лесов. Да, красиво, но мне не хватает простора, не хватает воздуха, я себя чувствую здесь, как в тесной одежде.
– А я вот в вашей степи скучаю. Час едешь – степь, два – степь, три – ничего не меняется. В душе какая-то оскомина от этого дурацкого постоянства.
– Оскомина… это хорошо… Знаешь, оскомина бывает от кислых яблок. Степь, как яблоко… Любопытный образ.
– Вы все о своем, господин поэт?
– Почему о своем? О нашем…
И мы снова писали… Обсуждали дела на нашей эстраде и, чего греха таить, порой довольно нелицеприятно отзывались об отдельных «мастерах искусств».
Мы снова расставались, чтобы перезваниваться. Наверное, если через сто – сто пятьдесят лет решат опубликовать нашу переписку, то будут только письма поэта Ю. Ремесника в Москву. Ответ я не писал и перезванивал. Если придумывалась новая песня, то пел ее по телефону. Я знал, что мой соавтор любил эти телефонные концерты, и они, однозначно, поднимали ему настроение.
О существовании поэта-песенника Ю. Ремесника уже знали любители музыки, во всяком случае, мои поклонники. Несколько раз его показали по федеральным каналам телевидения, а однажды, во время его очередного приезда в Москву, мы были на эфире набирающего обороты «Авторадио». Ведущей программы была известная редактор Диана Берлин. Она рассказала радиослушателям эфира о гостях передачи, акцентировав внимание на «нашем госте из города Азов, удивительном человеке и поэте Юрии Ремеснике». Слушателям предложили послушать несколько придуманных нами песен, а еще рассказали, что «наш гость» работает крановщиком на Азовском металлургическом комбинате и что в настоящее время он холост. Что тут началось…
Передача была в формате общения со слушателями по телефону, и телефон раскалился до бела. Соискательницы руки Юрия Петровича, забыв, что обычно мужчина первым предлагает руку и сердце, перебивая и отталкивая друг друга, рассказывали о своих физических и моральных достоинствах, соблазняли его трехкомнатными квартирами в Москве, уже взрослой и самостоятельной дочерью, и поэт отбивался с трудом и неожиданно для очередной дамы аргументировал отказ тем, что ему надо вставить зубы… Но та готова была ждать и помочь с дантистом.
Выдать замуж, вернее, составить ему партию не удалось. Он прирос всем своим нутром к Азову, к Дону, к казачеству. А может, он все делал правильно. Среда его обитания, да и способ его существования в этой среде говорил за то, что это не сиюминутное решение. Деньги к нему не прилипали. Если вдруг появлялась какая-то сумма, которая была выше его обычной номинальной, то она испарялась с какой-то удивительной скоростью. Родственники, друзья и просто «хорошие мужики» так же быстро исчезали, как и появлялись. И снова медленное течение жизни с частыми омутами и заводями, где вода – что, я? – жизнь могла зацвести.
Мое пятидесятилетие. Собираю на концерт всех, ну почти всех своих друзей. Кто-то выходит на сцену и участвует, кто-то смотрит на все происходящее из зрительного зала. Петрович как любимый соавтор, как действительно замечательный поэт, выходит на сцену. Его встречают бурными аплодисментами, как автора «Мадам» и «Лета нашей любви». Он читает два своих стихотворения и, очаровав окончательно публику, уходит за кулисы. Артисты, приятно удивленные поэтом из Азова, угощают его наперебой в артистическом буфете. Никто из них не отказывает в такой малости, как «сфотографироваться на память». Я уже не помню, что за аппарат был у Петровича. Но вся пленка или, как сейчас бы сказали, память, была забита под завязку. Лолита и Катя Семенова, Алена Апина и Ирина Шачнева, Алексей Глызин, Саша Иванов, Евгений Ловчев… Петрович улетел домой… Но…