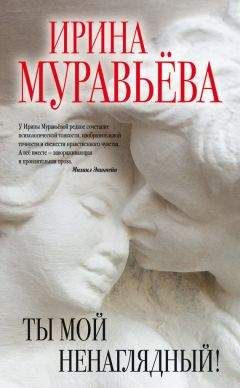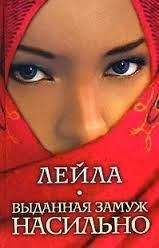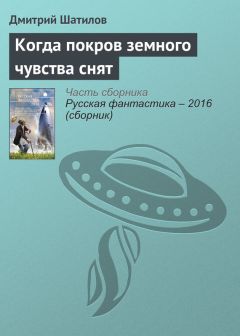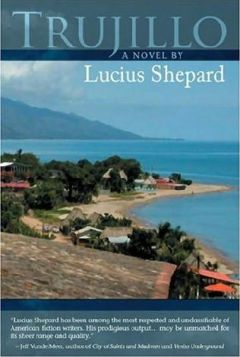Николай Дорожкин - Между Непалом и Таймыром (сборник)
– Вы зацепили ноющий нерв… Охотник – убийца или нет? Смотря для кого! Для буддиста, индуиста даже человек, прихлопнувший комара на лбу – убийца! Но мы – в России, в Сибири… Я мог бы сказать, что если человек охотится ради жизни, своей и близких, он – такой же элемент природы, что и зверь, и он – не убийца. А вот охота как спорт, как развлечение – это убийство. Но я скажу больше. Я считаю, что для защиты животных не грех и убить такого охотника…
– Человека – для спасения зверя? Вы это серьезно?
Р. Б. помолчал, переводя глаза с меня на Светку и обратно, потом закурил и – решился:
– Не будем о том, что само собой разумеется – какого зверя и какого человека… Для меня всё слишком конкретно. Дело в том, что… на мне уже висит… такой грех. Да, я сам несколько месяцев жил охотой… на зайца, косачей, куропаток… На севере Томской области. Сейчас неважно, почему и зачем… Так вот там я подружился с семейством бобров. Чудесная публика эти бобры! И мне пришлось их защищать. Только не спрашивайте, как у студента-филолога, пусть даже недавнего фронтовика, оказался в руках карабин. Я же не спрашивал, откуда взялись немецкие «шмайсеры» у двух человекообразных в кондовой тайге? И почему они из своих «шмайсеров» строчили на голос, не спрашивая – кто? Так вот, ради спасения семейства бобров – а у них уже были маленькие – я продырявил лоб одному из этих бандитов, а второго пришиб, обезоружил и – отпустил. Автоматы я бросил в речку… Об этом случае знает только мама… а теперь и вы… Но больше всего я боялся, что придется защищать бобров от волков! Пришлось бы в них стрелять, а это – уже самоубийство. Волки, волчики, зверюшки мои… Благородные воины северных лесов!.. Я сам – волк. Верите? – и он вдруг, задрав голову и вытянув кверху подбородок, завыл по-волчьи, зло и тоскливо.
Мы со Светкой переглянулись. Уж нам-то этот звук был знаком хорошо. В первую зиму войны у соседки жили квартиранты-дрессировщики. Клетки с лисами и мелким зверьем размещались в сараях, а волк – крупный и не очень серый, а светло-грязно-желтого цвета – был привязан к одной из берез, разделяющих наши огороды. Днем мы наблюдали за ним через изгородь, он же не обращал на нас внимания, бегал на привязи по протоптанной в снегу тропинке. А ночами волк выл. Это бы жуткий, тоскливый вой. Он проникал сквозь ставни и стены. Мы под него засыпали. Просыпаясь ночью, слышали тот же вой… Р. Б. невольно устроил себе экзамен по волковедению – и выдержал его с блеском. Откуда было ему знать, что нам эта гамма с полгода проникала в уши и души? Чтобы так выть…
…А может, он и правда был волком?
Мы его не прерывали и дослушали до заключительной низкой ноты.
* * *Новая остановка. Филлоксерный пост. Тщательно вытирая ноги о тряпку, политую ядохимикатом, население автобуса пересекло границу двух районов. Р.Б. поддерживал свою деву под руку. Странно! Раньше он был нежно предупредителен с пожилыми женщинами, а молодых девиц беспощадно «уедал». Я долго подбирался к разговору об этом…
– Р. Б., а кому, не считая родных, вы более всего обязаны? Мужчине или женщине?
– Женшине… Вернее, девушке… Девочке!
– Расскажите?..
– Вы любите задевать больные места! Какого дьявола?.. Ха! А вообще кто вы такой? – он посмотрел на меня с искренним удивлением. – И почему? Варум? Пуркуа? – я вдруг рассказываю вам то, что никому никогда?..
– Не хотите – не рассказывайте… – обиделся я.
– Нет уж, сэр, как же, сэр, вы же меня раскочегарили, и теперь уж, сэр, извольте слушать! Было это в Киеве в сорок третьем году, в августе. Я – в городе по заданию, все шло как надо, но в самом конце работы меня засекли – да по-глупому… Не за того приняли, но это неважно. Итак, я бегу, за мной – два немца и полицай. Не стреляют. Хотят взять живым. Бежим! В одном дворе я заскочил с черного хода в дом, бегу по лестнице, считаю этажи, соображаю насчет чердака и крыши… Четвертый – последний. Я люк чердачный поднял – и вдруг вижу, в квартиру дверь приоткрыта… Я – туда, дверь тихо прикрыл. Там – девчонка, лет пятнадцати, воду принесла, ещё коромысло в руке. Я ей: «Гонятся… немцы». А слышу уже – сапоги на лестнице… Она – вдруг, мигом – комод сдвигает с места да – в угол его, чтобы он угол загораживал. Трельяж сняла, я – прыг за комод и – присел. Она – трельяж на место, слышу – хлесь воду на пол из ведра, из другого – на середину комнаты и – тряпкой – шлёп, шлёп – по всему полу развезла… И всё это – секунд за десять! А эти хамы уже с чердака спустились и в квартиру стучат: «Полиция!» Она открыла: «Вам кого?» Они: «Кто сюда забегал?» «Никого, заходьте, бачьте…» Они побачили и ушли. Меня ловить! Я, когда из-за комода вылез, понял всё – она весь пол залила, но оставила сухой участок у комода. Сразу видно – если бы кто проходил, следы мокрые оставил… Но – за секунды так сообразить и сделать?
Я там до ночи отсиживался. Она со мной не разговаривала. «Сидишь? Сиди!» И вся розмова… Комод я потом ставил на место – тяжеленный, даже для меня… А она – худущая, голодная… Так и в чудеса поверишь! А что, разве не чудо?.. И даже имя её не узнал! Ничего не знаю! Ничего! Адрес? Но тогда были немецкие названия… Пытался найти – никаких данных… А лицо её всегда перед глазами. Всегда вижу. А здесь – особенно. Дело в том… Ваша Светлана похожа не неё. Чистый славянский тип. Глаза, волосы – светлое золото. Черты лица, жесты… характер, наверное… Фигура… Светлана, пожалуй, крупнее… спортивнее. Ей сейчас пятнадцать? И той было тогда… Ну а дальше? – вдруг резко повернулся он ко мне.
– Что дальше? – не понял я.
– Вы задали мне один вопрос, а на языке у вас вертится ещё один: кто – мужчина или женщина – причинил мне наибольшее зло? Так?
– Ну, так… – я растерянно уставился на Р. Б.
– Так вот – тоже женщина!
– Разве не на войне?
– Причём здесь война? Там были враги и свои – кто кого! Я даже благодарен войне и немцам (не румынам же или итальянцам!) как противникам. Там я по-настоящему узнал, чего я стою.
– Значит, следователь или судья?
– Ну что вы! Это были мужчины, фронтовики… Это их работа, и они сделали её наилучшим для меня образом. Увели из-под «вышки» и «червонца». Какие к ним претензии? Нет, витязь, то была – фемина! Дама. Любящая меня и уважаемая мной женщина. Она написала на меня донос.
– А сколько ей лет? И где она сейчас?
– Она моих лет. Скорее всего, она в Томске. Вы ведь поедете туда учиться? Можете увидеть её в университете. Перед вашим отъездом я сообщу её фамилию, и вы передадите от меня горячий краснофлотский привет!
– Вы шутите? Представляю, как вы ее ненавидите!..
– Да за что же?
– Она донесла! Оклеветала! Она виновата перед вами…
– Да бросьте вы! Виноват я – не надо было при ней язык распускать. Знал ведь, с кем имею дело!
– Знали, что она доносчица?
– Знал, что она – женщина, эгоистичная, ревнивая, собственница и до тошноты эмансипэ! И что любит меня… Ей показалось, что я ей изменяю, и она решила, что я могу изменить и Родине. Тем более что позволяю себе рассказывать анекдоты о неких личностях… с усами или в пенсне. Вот и донесла. Типичное поведение ревнивой, эгоистичной, эмансипированной женщины – из тех, что курят, пьют водку, ездят на мотоцикле… и даже иногда пишут стихи. Она – человек долга!
– Нет такого долга – ложные доносы писать!
– Есть долг – разоблачать врагов народа.
– Но вы же не враг!
– Объективно – да. А с её точки зрения – враг, по крайней мере с тех пор, как она поняла, что я не её собственность. И – вообще ничья!
…Теперь, в автобусе, за филлоксерным постом, когда я сел рядом с Р.Б., а Верочка пристроилась сзади на освободившееся место, я вспомнил наши разговоры и чуть не спросил о девушке из Киева – не нашел ли её и искал ли вообще… Но – не спросил. В присутствии Верочки это было бы кощунством… И ещё точило сомнение – а не сочинил ли он? Как пьесу? Хотя… В пьесе всё логично, «ружья стреляют», а в этой истории всё как-то не так и никакой экзотики… Не спросил! Но, когда он перечислял города, где побывал за эти годы, я без всяких интонаций уточнил: «А в Киеве?» Он замолчал, дернул плечом, «гум-гум» – и посмотрел на меня. Это был взгляд немолодого, усталого, битого и мятого жизнью человека, страдающего редкой болезнью – неспособностью что-либо забывать… Помнящего абсолютно всё, что с ним было! Помнящего всегда. Он молча, медленно покачал головой, потом, после долгого молчания, добавил словами: «Бессмысленно… Да и… боюсь чего-то… И – ни к чему. Это всё – там. В том времени. Это – есть, но – там…»
Дева Верочка, дотянувшись, тронула его за плечо, но он не откликнулся. Правда, минутой позже глаза его снова зелено заискрились, усы лихо разъехались, и он заговорил о чём-то смешном. В автобусе облегченно вздохнули.
А может быть, он просто всех девушек сравнивал тогда с юной киевлянкой военных лет? И не прощал им несходства с ней?
Да, он стал мягче… В Планерском, где ему надо было выходить, он ласково помахал Верочке рукой, и пока мы стояли, обмениваясь адресами и прощальными быстрыми фразами, она смотрела в окно автобуса, готовая по первому знаку выскочить и бежать за ним.