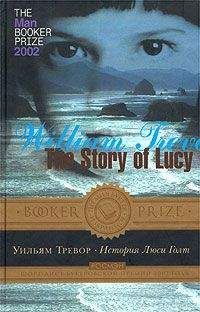Александр Товбин - Приключения сомнамбулы. Том 2
– Так, свобода воли изначально отменена? И понапрасну покорял-менял историю обыденный эпизод с мученической казнью бродячего проповедника? – заклокотал Гошка, – сколько здоровой символики извлекло время из простенького сюжета, противоречивыми толкованиями преображённого в Книгу Жизни! – клокоча, Гошка привычно похлопывал по набитым всякой всячиной накладным карманам джинсовой курточки, – что же, оборвётся восхождение, всё рухнет под напором словоблудия, страшных или сладких электронных картинок при попустительстве каких-то обезличенных высших сил? Рухнет вкупе с христианской моралью? Чепуха!
– Э-э-э, моралью только басня теперь сильна, – басил Бызов.
– Клио – аморальная дамочка, для неё нет ничего святого, – добавлял Шанский.
– Поэзия, вообще, выше нравственности, – подсказывал Головчинер.
– Из… семени выросло могучее дерево, – не унимался Гошка, – разветвилось, дало такой урожай плодов, что…
– Ствол едва держит тяжесть, – докончил Бызов под общий хохот.
– И что усвоило благодарное человечество в назидательном эпизоде? Любовь к ближнему? Жертвенность? Разве что привычку умывать руки! – зачастил Шанский, – поначалу мораль затмевалась фабулой Писания, потом окутал её фимиам кадильниц.
Бызов, насупясь, выбивал пепел из трубки.
по кругу, по кругу– Виновата, оказывается, не всё отнявшая революция, а эволюция, которая дала с перебором.
– Ладно, хватит пугать, ваше здоровье!
– Нам с перебором дали… в чём ещё напартачила эволюция?
– Напартачила ли, не знаю, – не отвлекался от возни с трубкой Бызов, – но загадок хватает. Например, не стареют щуки. По меркам человеческой жизни, щуки – бессмертны.
– Почему я не щука? – громко прошептала Милка.
– Чтобы ты не старела, как щука, – дунул в трубку Бызов, – надо было бы бог весть когда отключать какой-то из механизмов эволюции, какой – непонятно.
– Бессмертных щук ловят на блесну, фаршируют, – утешила Милку Людочка, приподняв жирно, чёрным, подведённые поверх зрачков желтоватые веки.
– Слава перегрузкам сознания, премногим обязанным щедротам и жестокостям эволюции, слава опрокидывающему устои жизни напору знаков и отражений! – изгалялся Шанский, вздымая рюмку, – худа без добра не бывает, катастрофы становятся щадяще-оптимистическими, раньше города уничтожались войнами, теперь – размахом жилищного строительства! А есть ли, скажите, более эффективные средства загубить землю, чем миллиардные вложения в сельское хозяйство?
Но Бызов пропускал ёрничанье Шанского мимо ушей. – При непосильных перегрузках сознания идеалы цивилизации сметает варварство – обрушиваются философские школы, опорные мифологемы, дома… лишь после прорастания руин свежими мифами новорожденные дикари, окормляясь ими, начинают возводить другой мир. Бызов грохотал, а Гошка морщился. – Слышали, слышали уже про упавший Рим.
– Разве не всегда так бывало? Перекармливать подданных иллюзиями и время от времени пускать им большую кровь – безотказная стратегия любого правителя.
– Всегда, всегда так бывало! Споём гимн воспроизводству жизни, гип-гип… хотя мы вот-вот будем погребены под развалинами, – закусывал Шанский, – спасенья нет, есть лишь спасительная логика циклического развития.
– Да, цикличность не отменить, хотя нас-то, с нашей врождённо-исторической болезнью, навряд ли она излечит, у нас, как кажется, всё завелось навечно… Крушение привычного уклада, кровопускание, голод; высвободились силы, распиравшие хама, ждавшие сигнала грабить-убивать в тёмных глубинах этноса и всё-всё – сначала, будто прошлого не было. Только дети, внуки, просвещённые средним образованием, натыкались на старые книги, кому-то хотелось думать, кому-то есть повкуснее.
– У тебя желания совпали, – ввернул Шанский.
– Совпали, не отпираюсь, – мирно урчал Бызов, обмакивал в грибной соус мясо, – и опять по кругу. Новоявленные спасители оплачут судьбу культуры, сплетут безутешные прогностические сюжеты. И – до нового катаклизма. А мясо классно зажарено, с кровью.
– Неужто пронесло? – Шанский потешно перекрестился на угол, где, как икона, темнела композиция с лежавшей обнажённой, к которой алчно тянулись коричневые студенистые мрази.
– Так я не пойму никак, – врезалась Милка, – нам каюк?
– Каюк откладывается, вкусно пока поужинаем.
Смех, шум, бульканье минеральной воды.
– Кто разницу между филе и дефиле знает? – затравил Шанский свежий перл армянского радио.
или-или– Круг исторического наваждения разорвётся, – обнадёживал московский теоретик; он подкреплял свои прогнозы прозорливым анализом русской государственности, почерпнутым в трудах модного некогда философского кружка Майкла Эпштейна, они публиковались в Петербурге в начале века, накануне первой мировой войны, но несправедливо были забыты, никто из присутствовавших о них даже не слышал, никто, кроме теоретика. Теоретик вслед за рассудительными предтечами, которых вольно цитировал, обещал обрушение социалистического бастиона общинности из-за усталости византийской базы, пышной, злато-пурпурной по форме, садистической и лживой по содержанию. Базы изначально, впрочем, не монолитной; чуя неминучую гибель в аморфных своих пределах, – мерно излагал старые, но не устаревшие анализы-диагнозы теоретик, – Византия загодя завещала северным язычникам традицию имперского православия. Похоже, Россия замышлялась Провидением как Византия, сдвинутая на север и в другую историческую эпоху. Однако основания славного наследия разрывались внутренними противоречиями, которые генетически обусловила варяжская имплантация в восточно-славянский мир; в пространной, обширной замкнутости людей-идей до сих пор враждуют-уживаются вольнолюбие Новгорода и деспотизм Москвы, рождённой от соития в диком поле Византии с Ордой. Разумеется, византийское наследие примесями причудливо исказилось, случились Петровские реформы. Византия – условный образ… хотя немеркнущий! Все эти удушливые воскурения в позолоту, вся эта замедленная величавая дребедень.
Далее теоретику стало неловко вязнуть в давно изложенных истинах, далее он лишь напоминал о творящей и тормозящей русскую жизнь двойственности, о внутренне-неизбывной её идейной шизофреничности, противоречивой её контрастности, как если бы прогуливался по пантеону исторически спаренных персон отечественной культуры. Рядышком, едва ль не под ручку, застыли высокомерно повернувшийся к европейским идеалам Чаадаев с порочным, покорённым восточной красочностью Леонтьевым, неподалёку от идейных антиподов, у трона, в невиданно-уродливого либерал-консерватора срослись, будто неоперабельные сиамцы, Сперанский и Победоносцев; и сколько их, этих пар… спор западников и славянофилов прилежно озвучивали хрестоматийные Штольц и Обломов, поднимались новейшие герои протеста – Сахаров и Солженицын.
– Почему Буковского-хулигана обменяли на Корвалана? Вот была б парочка! – скорчила лукавую рожицу Милка.
– В огороде бузина… Испортила песню, – пробурчал, проглотив водку, Бызов.
– А если Обломова поскрести так тоже западничество вылезет из него, а из Штольца того же… – робко начала Таточка.
– Идея! – оценил ловивший на лету Шанский, – каждый состоит из двух враждебных половинок, одна какая-то доминирует, но если б можно было изолировать половинки, то внутри западников всё равно б зародились славянофилы, а внутри славянофилов… и всё-всё бы восстановилось, это чёрное колдовство, не генетика. Или, – качнулся к Бызову, – или сию национальную аномалию, о которую издавна спотыкаются культурологи и политики, по силам устранить генной инженерии?
– Или-или, разделительные союзы, намертво стянутые дефисом, нерасторжимая взаимная дополнительность, – не менял отрешённо-плавной тональности теоретик, – поколение за поколением, выношенные и взращённые в домашнем расколе, органично воспроизводили духовную раздвоенность, болезненно-кичливое двуголосие; измученные комплексами неполноценности и исключительности, они заученно звали постигать, перенимать, догонять и тут же с чувством глубокой гордости и не менее глубокого удовлетворения поучали Европу: скучную своим благополучием, порочную и закономерно загнивающую вне уникальной православной соборности. Однако…
Византия обречена– Парная возня с борьбой нанайских мальчиков схожа, правда? – Милка тронула веснущатой рукой костлявое плечо теоретика.
– Пожалуй, хотя в отличие от нанайской борьбы она не так безобидна, – теоретик, улыбаясь, ласково клонил к Милкиной руке режущий профиль, сталью посверкивал из щёлок век, – раздвоенность искренне считалась плодотворной, питавшей духовное и бытийное своеобразие, торившее особый и светлый путь. Да уж! Просвещённые умы издавна необщим аршином собственную стать измеряли, над лагерными нарами высоколобых зеков витали романтические фантазии евразийства. Но итогом было торжество смердяковской державности.