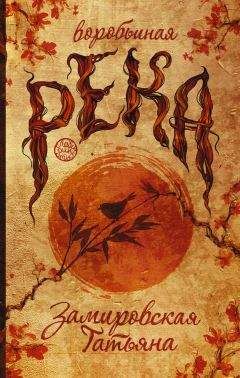Татьяна Замировская - Жизнь без шума и боли (сборник)
«Какая уж тут вера», – подумала она. Хотя не поверить было тяжело – некоторые таблетки были почти целехоньки. Видимо, она просто проглотила гораздо больше, чем нужно было, – вот и проснулась.
Помимо снов, были еще кое-какие нехорошие приметы. Дочь Софико спустилась со второго этажа и сказала, что у нее какое-то прелюбопытное нервное расстройство: когда она смотрится в зеркало, не распознает своего лица, видит только большой кожистый кусок чего-то однородного – ни глаз, ни носа, ни рта.
– Ты выглядишь нормально, успокойся, – сказала Софико, но потом подумала: «А где должна быть дочь? Разве она не уехала пять лет назад? Уехала. Нет никакой дочери». – Нет тебя, – сказала она, – вот и не видишь ничего.
Дочь пожала плечами и ушла наверх. Да, ей теперь будет о чем подумать там, наверху.
Софико пошла в кухню, потрогала ладонью печь: молчит. Во сне печь говорила, причем очень нехорошие вещи.
Тут в дверь кто-то постучал, но не муж – Софико уже знала, что с мужем на охоте случилась трагедия, об этом ей подсказала мушиная лента, свисающая с потолка; мухи налипли на нее в форме слова «трагедия», как-то умудрились.
На пороге стояла маленькая девочка с пулевой раной в детском сердце. Сердце это самое, детское, не билось, кровь не ходила внутри девочки туда-сюда, поэтому цвета девочка была нехорошего, октябрьского. «Ну и ладно, на дворе же октябрь», – подумала Софико.
– Дайте водички, – попросила девочка. – Пить хочется страшно. И зайти некуда – тут один только дом в округе.
Софико зачерпнула кружкой воды из ведра, отдала кружку девочке, отметив: «Оранжевая кружка с зайцем, больше потом из нее не пить, потому что девочка уже, наверное, заразная, пока ходила в таком виде по лесу, микроорганизмы в ней какие-нибудь, стопроцентно».
Девочка напилась, вытерла рукавом синие губы и сказала:
– Ну вот, а теперь я боюсь обратно идти, я тут у вас в кухне посижу, – и села за стол, и сидит.
Ну, если задуматься и как-то отвлечься, девочка как девочка.
Софико сидела за столом напротив девочки, старалась на нее не смотреть и курила. В дверь снова кто-то постучал, и снова не муж – уже по приходу девочки было ясно, что дела мужа плохи (Софико сказала себе: «Вестник, она вестник. Как только придет само известие, она исчезнет вместе со всей этой выпитой водой, и кружку может забирать, я ее все равно выброшу иначе»). На пороге стоял дедушка-пасечник с замерзшим осенним ульем вместо головы.
– Голова прострелена, напрочь причем, – объяснил он. – То есть разнесли все вообще. Поэтому я в маске, некоторым образом. У вас сигареты не найдется?
Дедушка-пасечник был жутко смущен, поэтому Софико позвала его в дом. Дедушка был чистый и аккуратный, с него не текло, не капало. Софико даже отдала ему свою сигарету, но дедушка ее не курил – просто держал в пальцах, стряхивал пепел на пол. Было заметно, что ему это нравится. Он сел за стол рядом с девочкой, девочка его не испугалась. «Да уж, – подумала Софико, – хорошо, что у дедушки глаза ульем прикрыты или их нет вообще, иначе он бы в обморок упал от вида этой девочки, хорошенькое дело».
– Будете чай? – предложила она гостям.
Гости молчали. Софико плеснула из ведра воды в чайник, поставила его на печь – будет гость, будет и чай.
В дверь снова постучали. Софико беспомощно посмотрела на дедушку-пасечника. Он словно что-то почувствовал – поднялся, сам открыл дверь. На пороге стоял медведь в военной форме, с орденами, абсолютно мертвый, с аккуратной дырочкой между глаз.
– Честь имею, – поздоровался медведь. – Зашел на огонек. Вижу, люди сидят хорошие. Отчего бы не зайти. Заплутал старик. Огни вижу какие-то – а где город? Города нет. Служил тридцать лет, уже на пенсию надо – но не могу, как это так – на пенсию? Вот, отправили – я шел, шел, практически правильно, компас, карта – но куда попал в итоге? Это что за населенный пункт, например? Лучше бы на границу послали, честное слово. Помогите, пожалуйста. В данном случае необходимы мелкие предметы из стекла, толченый фарфор тоже подойдет.
Софико взяла из рук девочки чашку («Допила?» – тихо спросила, вынимая ее из рук; девочка кивнула: допила, конечно) и уронила ее в эмалированную кастрюлю. Чашка разбилась. Софико протянула кастрюлю медведю.
– Спасибо, хозяйка, – закивал медведь, аккуратно вкладывая себе в пасть осколки. – Колотый фарфор, стекло – все нормально, все годится. Просто голова болит очень. – Он указал на дырочку во лбу. – Болит голова и болит. Уже сил практически нет, надо избавиться как-то. Ты не бойся, хозяйка, когда уж начнет действовать, я выйду, туда выйду – в лес, допустим.
Закипела вода, Софико заварила чай, разлила его по граненым стаканам, поставила перед гостями. Ее предчувствия начинали сбываться: девочка вскарабкалась мертвому медведю на колени (хотя где у медведя должны быть колени, вот вопрос) и начала засыпать, старичок-пасечник макал в чай пальцы и хихикал. Практически идиллия.
Вдруг снова постучали.
Софико аккуратно приоткрыла дверь: а там ее муж, Юрий Васильевич Головлин, живой и невредимый, все у него хорошо – розовощекий, с нагретым, жестким ружьем за спиной, ухмыляется, разводит руками: прости, красавица, дурака – задержался на охоте! Ну, всякое бывает. Где только люди не задерживаются.
Муж зашел в дом, увидел гостей и говорит: – Это ты, Софико, хорошо и правильно сделала – я на своей охоте в этот раз очень важных гостей застрелил и испугался, что из-за них у меня проблемы начнутся. Мне даже сказали – всё, домой теперь не пустят. Я уже и не верил, что вернусь. Но видишь, ты этих гостей в дом впустила, все просьбы их выполнила, чаем напоила – мне об этом сказали, поблагодарили, да и отпустили: иди, мол, не держим зла на тебя, все в порядке. Да и гости уже не злятся – все-таки серьезные люди, не мелочь какая-то, не утка, не вальдшнеп, нормальные порядочные личности, правда?
Девочка, старичок-пасечник и медведь дружно закивали.
– А что было бы, если бы я не впустила гостей? – спросила Софико, смутно о чем-то догадываясь.
– Ну, я бы сам стал такой же гость, – объяснил муж – Ходил бы так по чужим хатам, где муж на охоте начудил чего-нибудь. Сидел бы, чаи гонял. Но к тебе бы не заходил: нельзя. Так бы и мучился постоянно.
– Не постоянно! – сказал медведь. – Если толченого стекла нажраться, так и недолго совсем… Ну, я пошел. Будьте здоровы. – Похлопал мужа по плечу, да и вышел.
Девочка и дедушка-пасечник тоже собрались идти – поблагодарили Софико за чай, тоже похлопали ее мужа по плечу – мол, мы не обижаемся, всякое бывает, любой человек имеет право на ошибку, потому что за его спиной всегда стоит другой, близкий и родной ему человек, который права на ошибку не имеет.
Софико такого права не имела, поэтому поступила правильно: если кто-то просит о помощи, его надо впустить в дом и эту помощь оказать. Хотя она почему-то считала, что вопрос не в этике и не в сострадании – просто надо всегда прислушиваться к самым черным, самым негативным и чудовищным своим предчувствиям. «Все приметы сбывались. Поэтому я так себя и повела», – говорила она себе.
И это была чистейшая ложь. Но ложь в некоторых ситуациях, оказывается, прощается – что тут такого, ну ложь и ложь, не важно, в общем.
Розовый фон
Оливия твердо решила навсегда стать Ольгой, потому что Ольгу любили в школе, Ольгу катали на вязаном коне, Ольге дарили алые, как ее кровавый циничный оскал, платья на праздники и просто так, вдобавок Грейпфрутов любил Ольгу. Оливии же было некого любить, пока существовал Грейпфрутов – она чувствовала его в каждом миллилитре воздуха и от этого буквально задыхалась. Поэтому Оливия твердо решила стать всем, что любит Грейпфрутов, – она была готова выскоблить свой череп изнутри до мягкого, дырчатого зелено-подслеповатого оттенка, чтобы он ничем не отличался от выеденного грейпфрута, потому что Грейпфрутов наверняка любил грейпфруты; она была готова прыгнуть с высокой скалы прямо в море, потому что Грейпфрутов любил долго падающие предметы (он сам ей об этом сказал); она была готова превратиться в дождь из чего угодно, потому что Грейпфрутов обожал дождь, но начать она решила с Ольги, потому что Грейпфрутов любил Ольгу (он сам ей об этом сказал).
Вначале Оливия пошла к отцу. Отец сидел вместе с другими отцами во дворе и играл в домино.
– Папа, я вынуждена сказать тебе одну жуткую вещь, – сказала Оливия. – Я не твоя дочь. Я долго это скрывала, но теперь вынуждена сказать.
Другие отцы начали вытягивать шеи, чтобы посмотреть, не их ли теперь дочь Оливия, всякое бывает, но Оливия сжала зубы, чтобы не разреветься, зажмурилась и убежала.
Потом Оливия пошла к старшей сестре, которая заменяла ей мать.
– Послушай, – сказала Оливия, – я решила навсегда тут кое-кем стать, поэтому я какое-то время поживу на даче. Потом вернусь, видимо, но ты особо не обольщайся. Нормально?
Сестра в принципе и сама давно уже была другой человек, поэтому она отвернулась и продолжила взбивать яичный белок в густую вертикальную пену.